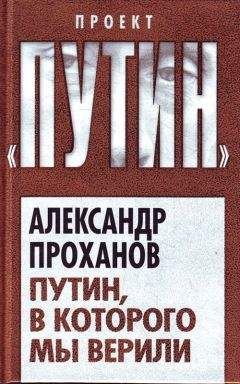Александр Проханов - Господин Гексоген
– Какую петь будем? – спросил он, прислушиваясь к бульканью.
– Не знаю. Я ведь мало их помню. И то не до конца. Какие-нибудь костромские. Вы знаете?
– «Соловей кукушечку уговаривал». Такую слышали? Волжская, времен покорения Казани.
– Нет, никогда не слыхала.
– А «Гусарика»? Двенадцатый год.
– И этой не знаю. Бабушка не пела.
– А какую пела?
– Вот эту: «Как после Покрова на первой недели…»
– «Выпала пороша…»?
– Да, эту!
– Ну начинайте.
– Боюсь, никогда не пела вдвоем. И потом так сразу… Странно! Уж вы, если затеяли, начинайте. А я подпою.
Пскова плескалась внизу, точно кто-то невидимый полоскал белье, и бело-серебряные простыни смутно вспыхивали на воде.
– «А после Покрова…» – начал он, чувствуя, как дрогнул, зазвенел воздух от первых высоких звуков.
«На первой недели…» – продолжал он, возвышая голос и срывая его на самом высоком, щемяще-прекрасном переливе, так, как пели его предки по всей обширной, лесной стороне, дико и сладко.
– «Выпала пороша…» – пропели они вместе, и он остро почувствовал, что и она чувствует то же самое.
– «На талую землю…» – допели они, умолкая, отпуская от себя легкий, замирающий под откосом звук.
«Какая пороша? На какую землю? – думал он. – На ее, костромскую? Где бабка ее шла, хватаясь за колья, обредая черные лужи? Откуда она знает все это – поле, тоску, надежду? Разве оттого, что качала их одна и та же земля и пустила гулять по себе в одно время?»
Как по той пороше
Ехала свадьба,
Семеро саней,
По семеро в санях…
Они пели, переливаясь один в другого. Ее молодое сердце билось в его груди, а его растущее счастье обнимало и наполняло ее. Они были теперь едины, и ничем, и всем вместе сразу.
Он провожал ее через город в Поганкины палаты, где жили археологи. Они мало говорили дорогой и, прощаясь, условились встретиться завтра, на Снятной горе, посмотреть старинные фрески.
Он проснулся на рассвете и смотрел, как в пепельном небе нежно румянится облако. Вышел на улицу. Было серо и холодно. Проснувшийся голубь зябко ворковал на крыше гостиницы. Ежась от сырости, он двинулся к кремлю, желая отыскать тот раскоп среди лопухов, на котором увидел Аню.
Он шагал по обвалившейся стене среди жестких мокрых стеблей. Тяжелое мутное солнце лениво качалось над крышами. Весь город колыхался в красном тумане.
Внизу, на скотопригонном дворе, что-то грохнуло, звякнуло. Со скрипом растворились ворота, и из них с мычанием и ревом повалило стадо.
Стадо клубилось внизу, наполняя улицу, и он, испытав внезапное мучительное любопытство, сбежал со стены и, прижавшись к забору, смотрел, как с гулом накатывается на него лавина дрожащих спин, хлещущих хвостов, кровью налитых белков. Ужасное, тяжкое было зрелище мычащего стада. Но он не уходил, ибо в этом ужасном и тяжком была влекущая, болезненная и свирепая сила. Она утягивала его вслед за стадом и дальше, в невидимую, еще не существующую даль, в ненаступившее время, где он мог оказаться среди свирепых стихий мира.
– Куда? – крикнул он пробегавшему мимо погонщику.
– На бойню! – ответил тот хрипло.
Какая-то слепая сила сорвала его с места, и он понесся за стадом, дыша его смрадом и пылью. От тесноты и от боли в быках пробуждалась похоть. Они вскакивали один на другого и, дрожа загривками, бежали на задних ногах, высунув мокрые языки, поливая улицу мутной жижей. Погонщики с набрякшими венами осаживали их дубинами в гущу.
Стадо пронеслось по центральным улицам города, вырвалось на шоссе и покатило, пыля, по асфальту.
«Куда я? Бойня, война, свирепые похоти мира?.. Не для меня!.. Не мой путь!..» – Он очнулся и встал. Сердце колотилось, в глазах метались быки. Стадо пылило уже далеко красным пыльным комом.
Он вдруг почувствовал себя страшно утомленным и вялым, словно часть его жизни утекла вслед обреченному стаду. Медленно брел назад по пустому шоссе.
Когда солнце было уже высоко и палило, он сел на автобус и поехал на Снятную гору. Дорога вилась над самой Великой, и сквозь белую пыль спокойно голубела река, плыли по ней пароходики и лодки, зеленели луга на той стороне, и недвижное стадо пестрело у отмели. Автобус остановился в горячих соснах. Он поднялся по тропинке к церкви.
Сторож в заношенной офицерской фуражке отомкнул ему церковную дверь. Он вошел под прохладные гулкие своды с льющимся из купола воздухом, с зелено-розовыми полустертыми фресками. В алтаре у Глеба нежно горел край одежды. Ангел с острым соколиным крылом глядел со стены удивленно и радостно.
Он стоял в забытьи. Фрески над ним дышали ароматами трав и земли.
Вышел на пекущее солнце. Сторож гремел ключом и, наконец навесив замок, подошел к нему:
– А ты, чай, в Бога не веруешь? Ну, ну. Бог, он как сон – тебе приснился, мне нет. Вот и ходим, и ходим, бедные, – и побрел тихо прочь, размахивая ржавой связкой.
Он спустился к Великой и купался в разливе, глядя на светлые разводы ветра.
– Так вот вы где? – услышал он над собой – А я вас сверху увидела.
Аня стояла перед ним в бело-синей полосатой юбке, в соломенной шляпке, ее колени золотились у самых его глаз.
– Вы уже и фрески без меня посмотрели, и выкупались? – Не отвечая, он радостно смотрел на нее. Она смутилась и отступила на шаг. – Что, опять собор на вас рушится?
– Рушится, рушится! – засмеялся он. – Купайтесь, такая теплынь, замечательно!
– Вы все без меня успели.
– Купайтесь, я буду еще.
Округлым плавным движением она скинула шляпку, выпустив на плечо золотистый, рассыпающийся пук. Отвернулась и одним сильным взмахом освободилась от юбки, оставшись в черном атласном купальнике. Хмуря брови, чувствуя на себе его взгляд, пошла от него к реке.
Он смотрел жадно, как она входит в воду и вода подступает под ее круглые колени. Сильно, молча, без плеска она легла на воду и поплыла бесшумно и быстро, как зверь, подымая из воды белые плечи, и волосы ее сияли, как тяжелый слиток. Встала из воды, гладкая, яркая. Изогнулась, отжимая влагу из потемневших волос, и, подойдя, опустилась, уронив мокрую руку в жаркий песок. Аня улыбнулась бело и ярко, держа в зубах ромашку.
– Вы плыли, как выдра, – сказал он, чувствуя, как прохладный свежий аромат идет от всего ее тела.
– Как выдра? – переспросила она, быстро взглянув на него.
– Как бесшумная выдра, – сказал он и взял ее за руку.
Капли дрожали на ее загорелом, с белой дорожкой плече. Она не отнимала руки. Он закрыл глаза, потянулся вперед и поцеловал ее. Губы ее были глубокие, мягкие, и быстрый пугливый язык, и он целовал ее, не раскрывая глаз, то уходя в мучительный сладкий омут, то возвращаясь в горячий, бьющий сквозь веки свет.