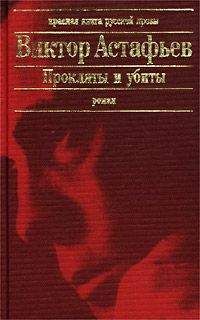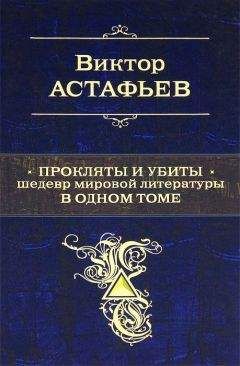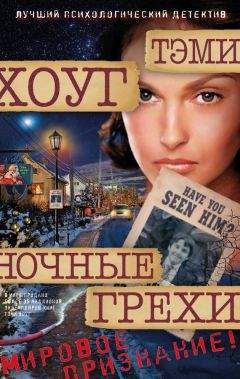Виктор Астафьев - Прокляты и убиты. Книга вторая. Плацдарм
– Рву, товарищ полковник! – рявкнул Шорохов и сразу же успокоился, позевал, шарясь под мышкой, пощупал болевшую голову, подавил ее руками до треска, глянул на солнце, решая; сейчас попользоваться трофейным добром, перекусить и выпить, или потом?
Лешки все не было. Сложив руки у рта рупором, негромко – немцы могли стрельнуть на выкрик – Шорохов позвал связиста, поискал его за ближним поворотом – нету. Растревоженный Шорохов рванул по линии, пропуская через горсть вязаную-перевязаную, едва ерошенную узлами, ладонь рвущую нитку провода. С речки Черевинки пришлось уйти – линия укоротилась, протянута она теперь поверху. На стыке двух оврагов и проползти-то пустяк, метры какие-то, но сколько тружеников-связистов, изъеденных червями, безобразно вздувшихся, валялось здесь. Шорохов из-под пулеметной очереди рухнул с обрыва. За ним, обгоняя друг друга, сыпались, щелкали об сапоги комья сухой глины, припоздало прыснули автоматные очереди. Меж щелястых, перегорело лопнувших комков тоже комочком, но сереньким, лежал, скорее сидел, лицом уткнувшись в колени, человек, зажав телефонную трубку в одной руке, другой затиснув оборвыш провода.
– Лешка! Шестаков!
Связист не откликался. «Пропал харч, с таким риском добытый», – мимоходом мелькнуло в голове Шорохова. Выдернув из пальцев Лешки провод, он поискал глазами второй конец, с усилием стянул и соединил линию. Посидел, пощупал напарника и приподнял его лицо. Даже он, лагерный волк, навидавшийся страстей-ужастей, отшатнулся, увидев, как изуродовано лицо человека. Правый глаз вытек, из беловатой скользкой обертки его выплыла и засохла на липкой от крови щеке куриный помет напоминающая жижица. Рука Шестакова, из которой Шорохов выдрал провод, праздно покоилась ладонью кверху на глине и начала уже чернеть в сгибах пальцев, а ногти белели, оттеняя траурную полоску грязи. По непобедимой привычке стервятника Шорохов обшарил карманы связиста, услышал тепло его живого тела, слабый, как бы уже сонный стон издал напарник, пытаясь кого-то дозваться, что ли.
Вернувшись к телефону, Шорохов доложил:
– Все в порядке. Связь налажена. – И попросил передать артиллеристам, чтоб выслали своего связиста: – Шестакова шлепнуло. За двоих же дежурить он не намерен.
Из оврага, ослабело дыша, поднялся Понайотов, за ним Сашка-санинструктор, вычислитель Карнилаев, у которого вроде бы остались одни круглые очки вместо лица.
– Где? – упав грудью на бруствер, тыча в Лешкин телефон рукою, загнанно спрашивал Понайотов. От быстрой ходьбы и слабости у него кружилась голова, больно рубило в груди. – Где?
– Шестаков-то, что ли? Там! – Наудалую, не поймешь, указал или отмахнулся Шорохов.
– Зачем он туда? – все еще не продышавшись, спросил Понайотов. – Там нет нашей связи. Там ваша связь… В батальон. – Понайотов разом умолк, поняв, в чем дело, и, растерянно глядя из черной бороды на Шорохова, сбивчиво, почти плача, лепетал: – И вы?… И вы?… Бросили?!
– А че мне, ташшыть, да? Подохнуть, да? Нас обоих на тот свет проводили бы, а дежурить кому? У телефона кому?
– Вы хоть перевязали его?
– Чем я перевяжу? Своим пакетом, да? Да и не требуется ему уже перевязка.
– А ну! – сверкнув глазами из смоляной бороды, зарычал Понайотов. А ну, выходи сюда!…
– Че вылазить-то? Че вылазить-то? Ты мною не командуй! У меня своих командиров, что вшей в кальсонах… – выбираясь однако из ровика, нудил Шорохов и, не дожидаясь распоряжений, позвал Сашку-санинструктора: – Айда, покажу. Сам-то я туда не полезу. Издаля покажу.
– Это я, – подал голос Сашка-санинструктор, зная, что для раненого важнее всего знать, что он не брошен, не один, по возможности меньше врать, обрисовывая его состояние, – ложь раненые чувствуют обостренно и, хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся этой лжи – раз обманывают, значит, плохи дела. Санинструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздехалки – батальонного миномета – больше пакости, чем убоя. Санинструктор сходил в Черевинку – она в самом деле была рядом, за поворотом, принес воды, влил несколько глотков в рот раненого. Раненый шевелил губами, трудно глотал воду. Санинструктор обтер лицо раненого водичкой, перевязал, привел его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях, и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Понайотов не добьется, чтобы и других раненых переправили за реку. Щусь орет-надрывается, пистолетом трясет, чтоб раненых взяли.
– Кого еще? – шевельнул губами Лешка.
– Талгата.
– А дед? Деда как?
– Дед никак. – Сашка помолчал, поник. – И Булдаков из боя не вернулся.
– Гриша… Гриша Хохлак?
– Гриша?! – обрадовался санинструктор. – С Гришей порядок. Рана у него открылась. Нелька его снова в госпиталь погнала.
– Хо-ро-оо-шо, – прошелестел губами Шестаков. – Пи-ыть, пи-ыть…
Вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника Бескапустина. Голова и лицо Лешки были сплошь забинтованы, бинты пугающе белели в чуть освещенном блиндаже. Медленное дыхание его едва касалось реденькой, слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул плащ-палатку, взглянул на окровавленные бинты, которыми было обмотано лицо Лешки, покрутил головой, подавляя громкий вздох. «Это я, тезка, Щусь, комбат. Как ты, дорогой?» – прокричал он будто глухому.
Лешка что-то силился сказать. Щусь встал на колени, подставил ухо к жарко дышащему ртом раненому:
– Живы будем – не помрем…
Свирепствовал полковник Бескапустин, взывая о милости к левому берегу, кого-то вежливо и настойчиво убеждал Понайотов, не выдержал с переднего края прорвавшийся Щусь, затребовал к телефону доступного ему начальника, Нельку Зыкову.
– Эй, ты, действующая медсила! Нелька! – со свистом дыша, сквозь зубы, задушенно говорил он. – Если Талгата и Шестакова не возьмете, сволочью мне быть, кто мне первый попадется под руку из вашей конторы – застрелю!
– Стреляло какой! – огрызнулась Нелька. Ты как переправился, так реки и не видал, что на ней делается, не знаешь!…
– Я те сказал!
– Сказал, сказал…
Нелька все-таки продралась на правый, на гибельный берег. Суровая, в суровую робу одетая, самой же ею придуманную, – война научила Нельку не только биться за свое женское достоинство, не только раненых спасать, но и себя обихаживать в полевых условиях, да попутно и ребенка своего – сестру ли – Фаю сохранять. Фая шила на себя и на Нелю, не очень изящно, зато ладно, к обстановке подходяще. Сама Фая ходила в военной форме, лишь вместо юбки носила мужского покроя брюки из немецкой пестрой плащ-палатки. Нелька одета по-походному: поверх военной формы у нее такие же, как у Фаи, пестрые брюки, заправленные в сапоги, курточка из того же плащ-палаточного брезента, под курточкой, шнурком на талии затянутой, стеженная безрукавка, с правого бока из-под куртки свисал конец кожаной кобуры с пистолетом тэтэ, всегда смазанным, заряженным, стоящим на предохранителе. Разное начальство пробовало указывать Нельке на нарушение военной формы. «Бабе своей указывай!» – отшивала она начальство, не глядя на ранги.