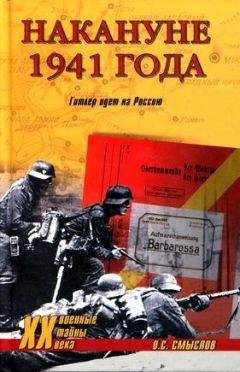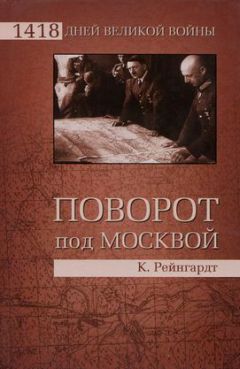Игорь Шенфельд - Исход
— А потом? Мы же без документов совсем!
— А теперь уж — как Бог даст, Валетик. Не забывай: у нас мешок золота имеется вместо документов. Так что или пан, или пропал. На руднике все равно бы не выжили. Все. Не скули. Мы на свободе: это главное. Забираем все одеяла: теперь всё пригодится. Спасибо Еноту за спички: пока есть огонь, мы живы. Вперед, Вальтер, вперед: надо, чтоб следы наши успело замести.
И они побежали на юг, постоянно сверяясь с компасом. «Ворон ворону глаз не выклюет»: это только поговорка такая складная. Ворон ворону может и не выклюет, а вор вору — запросто», — думал Николай на бегу, все еще недоумевая по поводу хитрой внутриворовской интриги, в которую они чуть было не вляпались со всего маха. Или Енот задумал место Малюты занять? Это тоже было бы объяснением.
Но все это теперь действительно было неважно. Главная загадка была разгадана, а значит — у них снова появился шанс на спасение. И этот шанс дал им Енот — неважно из каких соображений. Ведь спички, нож и консервы он мог и не положить. Так что низкий тебе поклон, Енот и прощай навсегда…
С этого момента и началось их настоящее бегство. В ту первую ночь они не смогли уйти далеко, но им удалось, двинувшись на юг, до рассвета перейти болото, обогнув мыс по большой дуге, зайти мысу в корень и уйти в тайгу на север километра на два. Таким образом, они прошли мимо лагерей на лесистом берегу справа от себя, и надурили погоню с мыса — если та была. Они сделали свой первый привал, чтобы подготовиться к дальнейшему пути, в первую очередь — решить проблему обуви. Для этого они распустили брезентовые мешки на полосы, а одеяла обмотали вокруг ног в три слоя наподобие портянок и плотно обвязали брезентом; по сухому снегу идти в таких «унтах» было нормально. Соответственно, раскромсали одеяла и изготовили, скрепив брезентовыми полосами, накидки типа мексиканских пончо; еще два одеяла остались, чтобы заворачиваться ночью.
К середине дня снег падать перестал и сильно потеплело: почти до нуля, потому что снег слал липнуть. Они съели полбанки тушенки и двинулись на восток — по компасу. Шли до темноты, шагалось пока легко: снега было не выше колен, иногда глубже, а местами, с подветренной стороны леса было снега и вовсе по щиколотку. В сумерках зашли в бор, заметили пещерку под корнями сосны, выгребли из нее снег, нашелушили коры, нарубили ножом веток, развели костерок перед пещеркой, завернулись в одеяла, втиснулись в пещерку и очень скоро уснули, сморенные усталостью и переживаниями первого дня побега, а также чистым воздухом свободы — какая бы неуютная она не была пока, эта свобода…
Утро второго дня родилось кристально прозрачным, сине-белым, пушистым, как праздник. Но любоваться природой было недосуг. Их поход продолжался, и время торопило. Они доели тушенку из первой банки, и банку — как и первую — взяли с собой: для кипятка, вместо котелка.
Они шли, и шли, и шли, и молотили снег ногами, обливаясь потом, и перелезали через метровые кряжи, застревая среди стволов и корней и с трудом вырываясь порой из их цепких сплетений. «Джунгли какие-то!», — ругался Николай. За весь тот день они преодолели не больше пяти километров. Это было плохо. Но на третью ночь они нагнали, двигаясь при свете луны вдоль прочно замерзшей маленькой речки. Пришлось, правда, вихляться вместе с ней, но она вела туда, куда им было нужно, плавно заворачивая на юг. Затем, однако, они наткнулись на свежую прорубь и колею, пересекающую речку, и угадали в подлунной синеве поселение справа, на высоком берегу. Они находились слишком еще глубоко в стране лагерей, и рисковать не стали — обошли поселок лесом. Поселение обошли благополучно и побежали, стремясь уйти от деревни подальше и мечтая, чтобы пошел снег и замел следы. Когда рассвело, они забрались глубоко в лес, нарубили лапника, забрались в него и немного поспали, не разжигая огня. Потом съели еще полбанки тушенки, уже третьей, и пошли дальше — на юго-запад, в сторону гряды холмов, которые поднимались на горизонте. Беглецы начали выбиваться из сил. Снега было все больше — выше колена, а сил оставалось все меньше: ста двадцати пяти граммов тушенки на день тяжелой работы их усталым мышцам не хватало. Сколько они прошли за четыре дня? Было очень трудно сказать. Километров шестьдесят, наверное. После первого дня пути ни одной трассы, ни одной дороги они больше не пересекали. Это было хорошо: значит, все лагеря остались справа, и можно было поворачивать теперь строго на запад, потому что где-то там, километрах в семидесяти должна быть железная дорога, а вместе с ней и реальная надежда на спасение.
Холмы-горы медленно приближались. Идти к ним было удобнее, легче, следуя рельефу местности: вдоль ручьев, например. Так они и шли — то напрямик, то зигзагами. Костерок разводили всегда под вечер, в укромных местах, чтобы не замерзнуть ночью. Но погода щадила, было относительно тепло. Утром ели тушенку (теперь уже оставалась последняя банка, и они уменьшили норму, чтобы растянуть банку еще на три дня) и пили кипяток, чтобы разогреться.
Чтобы отвлечься от тревожных мыслей и от усталости, они разговаривали. Не на ходу — это стоило лишних сил, а во время коротких привалов. Они говорили о лагере, который оставили, и о детском своем прошлом, и о планах на будущее. О планах на будущее говорил в основном Вальтер. Вальтер мечтал вслух: он расписывал, как отрастит себе бороду подлинней, как явится в Елшанку, никем не узнанный (наверняка его семья уже вернулась домой, а если еще нет, то обязательно вернутся когда-нибудь, когда война закончится: не останутся же на чужбине, куда их везли!), как попросит воды попить у матери, или у сестры, сказавшись, например, агрономом, а потом начнет задавать вопросы, которыми совершенно собьет всех с толку, спросит, например, что сделалось с черным щенком Руфусом? Откуда может прохожий агроном знать про щенка, которого когда-то притащил в дом маленький Вальтер? И тогда мать что-то заподозрит и скажет: «О Господи!». И сестра Беата тоже догадается, и тоже воскликнет: «О Боже мой! Этого не может быть! Вальтер? Это же наш Вальтер, мама! Это ты, Вальтер?»… В этом месте у Вальтера срывался голос, и он отворачивался и разглядывал небо.
Николай свои планы не расписывал: не хотел втягивать Вальтера в подробности своего плана мести. Да никакого плана еще и не было: только решимость добраться до родной станицы, разузнать все про гада, а там — по ситуации. Зачем Вальтеру знать?: мало ли как все обернется, как жизнь сложится…
Снова и снова возвращались к обсуждению «курьерного бизнеса». Теперь уже Николай посвятил Вальтера во все, что сам знал. Вальтер ужасался подлости блатных: «Ведь Малюта нас на верную смерть готовил, получается!».
— Золото, Вальтер, золото: перед ним нет ни закона, ни совести — оно убивает все.
— А которые блатные на свободу выходят: они выносят золото? — хотел знать Вальтер.
— Урки выносят, да. Глотают шарики. Да выходят-то редко — даже уголовные, и те редко выходят. Да много и не вынесешь — так, для себя только, а то живот порвет. Это у них «пенсией» называется. Из-за этих «пенсий» и существуют в лагере «ювелиры», которые золото в шарики то ли скатывают, то ли сплавляют. С такой вот «пенсией» жуткая история одна приключилась лет пять тому назад: урки до сих пор хохочут. Вор был, Тараканом звали, откинулся через семь лет по амнистии, и пошел на волю с шариками в животе. Рейсовые автобусы от нас не ходят, как ты сам знаешь, так что выпускают за КПП только когда попутная машина в город идет, чтобы освобожденный вокруг лагеря без дела не болтался. Вот и для Таракана такая попутка предоставилась, да грузовичок сломался вдруг без предупреждения. Пока его ремонтировали, Таракана в подсобке, за решеткой держали, в нейтральной зоне. Понятное дело, что ему — хочешь-не хочешь — на парашу ходить надо. И застал его однажды солдат охраны за противным занятием: шарит Таракан рукой в собственной параше, что-то вытаскивает оттуда и снова глотает. Солдата чуть не стошнило: «Ты чего творишь, свинья?». А тот растерялся, глазами хлопает и бормочет: «Ну, недопереварил, бля, ну, недопереварил чуть-чуть, шеф, бля, не пропадать же добру, бля, шеф…». Наутро тот же солдатик, который ничего не заподозрил по скудоумию, повел Таракана наружу, грузиться, да по пути возьми и спроси: «Говна не завернул себе на дорожку, говноед?». А Таракан-то себя уже на свободе почуял, потому что они за «колючку» как раз вышли, да и борзанул в ответ: «Я, — дескать, — свое говно тут от звонка до звонка отъел, а тебе, мухомор, его и дальше хлебать за «колючкой». Солдат обиделся да и саданул Таракану хуком под— дых. Ну, тот повалялся у него в ногах, доставил удовольствие, покорчился, повыл, кое-как перевалили его, уже свободного гражданина, общими усилиями в кузов, машина и уехала. А через полчаса вернулась: помирает ваш клиент, кажись… А Таракан орет, за брюхо держится, уже синий весь. Солдат-то, когда ударил его, то по шарикам попал — то ли желудок ему порвал, то ли кишки. Короче, заражение крови началось. А «скорой помощи» на сто верст кругом нету ни одной; не самолет же для зека сраного вызывать, хотя бы даже и бывшего? Пришлось Таракана назад, за проволоку тащить, в распоряжение Косрича. Тот объявил: надо срочную операцию делать. «Ладно, делай. Чего требуется?». «Спирту! Много!». Пошли за спиртом, недовольные, то есть не за самим спиртом, а за разрешением сначала — давать или не давать? А когда вернулись, то видят страшную картину: «операционная» полна взволнованных уголовников, посредине, на столе Таракан лежит со вспоротым брюхом, уже мертвый, и Косрич двумя руками по локоть у него в брюхе шарится. «Что такое? — кричат ему, — мы тебе спирту принесли, а ты не дождался, сволочь?». «Экстренная ситуация! — отвечает, — перитонит из брюшной полости удаляю… что… мертвый уже?… быть такого не может, только что дышал еще… и точно… летальный исход. Не удалось спасти», — и вопит: «А я вам не академик Павлов! Вы бы еще дольше за спиртом ходили!». — «Ага, точно!: он по крокодилам специалист, а не по человекообразным», — интенсивно подтверждают толпящиеся вокруг человекообразные, гадая с надеждой, оставят Косричу спирт при этих новых обстоятельствах, или не оставят, и выцепил ли Косрич шарики из кишок Таракана, или не выцепил. Спирт, конечно же, суки-вертухаи, уркам не оставили — себе нужней, а как золото тараканово делили, и сколько самому Косричу досталось — об том история умалчивает…