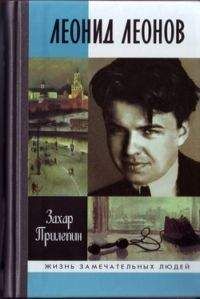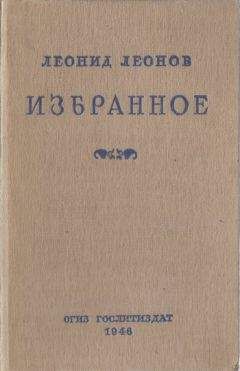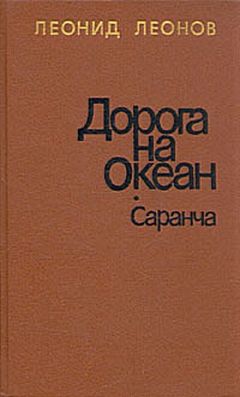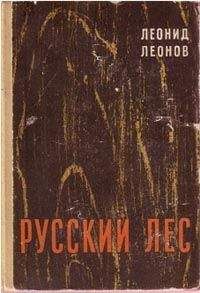Леонид Леонов - Пирамида. Т.1
В годы, проведенные им на берегу золотоносного кинопотока, он вдоволь нагляделся на различные виды изобилия, проплывавшие мимо в одни и те же адреса, так что под конец, ко времени перехода в райфинотдел, наравне с профессиональной изжогой нажил острую, буквально до корчей, неприязнь ко всей категории лиц, виновных в преступном обладанье талантом. Неоднократно, выглядывая из своего окошечка при выписке кассовых ордеров, убеждался он как в полной заурядности большинства из них, так и в пригодности для совершения над ними некоторых административно-финансовых эволюций, которым уже подверглись остальные области народнохозяйственной жизни. Вдобавок, явственно различая меж ними очевидных, с черной биржи перекочевавших дельцов, к тому времени изрядно засорявших искусство, он и прочих считал ловкими, лишь до поры не разоблаченными мошенниками. Как и его эпоха, Гаврилов исходил из положения, что гениальность, как и добродетель, сама по себе является вознагражденьем за приносимую ими общественную пользу, и потому все, от рождения обделенные свыше, имеют право даже на повышенную долю при распределении благ, чем хоть частично возместилась бы их вынужденная неполноценность: только так, по его убежденью, и могли практически осуществиться столь напыщенные, в своей гуманитарной документации, заветы всемогущего равенства и братства. Вдобавок, избранники являются всего лишь вьшаденьем из статистического ряда за счет своих соседей, а если и родятся сами по себе, то питаются опытом и накопленьями предыдущих поколений, и следовательно, сами находятся перед современниками в долгу, вследствие неоплатности его становясь как бы их законным достоянием. Некоторые юридические нормы взаимоотношений гения с обществом Гаврилов черпал из мира энтомологии, этого единственного прообраза земного бытия в согласии со здравым смыслом, где труженики позволяют своим коровкам бездельничать на солнышке за каплю сомнительной сладости, без которой, на худой конец, могут легко обойтись. В минуту ожесточенья однажды, как-то сам собою, написался у него меткий, правда, недошлифованный, фельетон, где в несколько гипертрофированной манере сопоставлял трудовую, за всю его страдальческую жизнь, зарплату с потенциальным, даже по существующим разовым ставкам, гонорарам покойного певца Шаляпина, если бы пел, конечно, не ленясь и в полную трудовую нагрузку, пускай даже не во вредном цеху. С годами снедавшая его ненависть превращалась в горький сарказм презренья к так называемым самородкам, которые, на свою беду, и в самом деле редко попадаются без общественно-посторонних примесей.
— Эх, вручили бы мне высший кнутик на годок-другой, я бы их всех быстрехонько на живую руку отрегулировал... — не раз в полушутку и с кротким мерцающим взором говаривал он в присутствии рассеянных начальников, теребя в руках черновые наброски — насколько можно было бы удешевить весь процесс культуры с последующим обращением сэкономленных средств на тяжелую индустрию либо на помощь все тем же малоразвитым странам. — Да и вообще, только мигните, а уж мы найдем куда деньги девать... и главное без риску. Ибо истинная тля не может без сиропцу: закройте у ней ту самую выходную точку, и ей баста.
Разумеется, для проведенья подобной реформы пришлось бы самому Гаврилову создать необходимые условия, и, если шибко попросить, он согласился бы выдвинуться для народного блага хоть в пожизненные вожди — вплоть до профсоюза, чтобы на базе более чем двадцатилетнего бухгалтерского опыта производить неуклонное, чуть где возникнут, пресечение беспорядков, также путешествовать по всем странам для налаживанья международных связей в теплой дружественной обстановке и сообща давать текущие директивы по всеобщему счастью, ничего не получая от народонаселения, кроме простых овощей, популярности и немножко памятных подарков, а сомневающимся тотчас секим-башка. Тут главное зацепиться бы, а уж дальше он показал бы свое трудолюбие, доныне пропадавшее без употребленья. К несчастью, по незнанью иностранных языков масштаб предполагаемой карьеры ограничивался пределами своей финансовой епархии... впрочем, история приводит примеры, когда иная проходная волна выносила вовсе случайных, вовсе без финансового образованья граждан на вершину всевластия.
Размечтавшись разок, он прикинул на счетах свои шансы на выдвиженье, и ужаснулся количеству соперников, всю четверть века обгонявших его, заставляя глотать пыль своей славы. Горе было в том, что никакая кровопролитная война не помогла бы ему избавиться от них, тем более эпидемия, землетрясенье или другой, вовсе лишенный избирательного действия катаклизм. Для того чтобы пробиться сквозь плотный заслон ненавистных, в ту же сторону склоненных спин, нужно было иметь руку на тогдашнем Олимпе. Отсюда проистекала тактика действий: примерным восхваленьем намеченного временщика привлечь к себе его благосклонность и самому кулаками соответственных свершений пробиваться к руке навстречу, когда она, длинная и неуязвимая для бешенства людского, протянется поверх голов вытащить его из ничтожества. Способ был так прост и соблазнителен, что фининспектор еще раньше приотвернул бы сей вернейший крантик славы, чтобы нацедить себе на текущее процветанье, если бы по некоторым косвенным обстоятельствам не опасался шумом струи привлечь к себе общественное вниманье. Надо полагать, однако, что уходившие зазря лучшие годы жизни с той же скоростью текли и для тех, кто постарше... словом, ярость прорвала наконец оболочку терпенья.
Логика действий складывалась так. Надо было поначалу лихой кавалерийской рубкой какого-нибудь все равно обреченного объекта, старо-федосеевского в данном случае, довести его до отчаянного вопля в виде жалобы на фининспекторский перегиб, откуда надзирающие инстанции узнали бы о безвестном дотоле чиновнике с неукротимо-классовым подходом. Заслуга воина всегда мерилась воплем и корчами врага, наиболее убедительными уху и глазу военачальника. При тогдашней вражде к религии любое чиновничье усердие, даже с превышением власти, отмечалось похвалой и, некоторый срок спустя, служебным поощрением. Приходилось как бы наступить на птичье гнездо и выслушать неизбежный при этом хруст всяких там косточек, скорлупок и былинок. Что касается совести, досадного атавистического страха души утратить нечто, с чего якобы и началось, то в конце концов всякий вправе защищаться от замахнувшегося врага. Как раз в паузе томительной нерешительности и просвистел над ухом у Гаврилова косарь лоскутовского мальчишки. Не ужас гибели или радость сохраненной жизни испытал он в первое мгновенье, — лишь облегчительную благодарность кому-то — за приоткрывшийся ему доступ в высоту... даже попытался продлить в памяти тот благословенный, скользнувший по виску железный ветерок, который почудился ему взмахом приближающегося крыла. «Ага, проклятый ворон, коршун, орел или кто там, наконец-то заприметил фининспектора на его скифской скале и вот, не без гурманского отвращенья, пристраивается сбоку клевать гадкую гавриловскую требуху... ничего, попривыкнешь!» Даже ощутил себя ненадолго в ряду своих великих предтеч, вроде Марата или Джордано Бруно, но только ему пофартило в смысле абсолютной бескровности, хотя в принципе Гаврилов не отказывался от положенной порции боли, лишь бы не выбила его в самом начале из ритма обновленной жизнедеятельности. Вражеская вылазка удваивала его шансы на скорейшее восхождение и, конечно, в случае судебного следствия, духовный сан не позволил бы старо-федосеевскому попу отрицать факт покушения на госдеятеля при исполнении служебных обязанностей. И вот уже в теле сама по себе являлась свойственная великим трибунам тигровая осанка с характерным почернением зрачков от сознания безграничной власти.