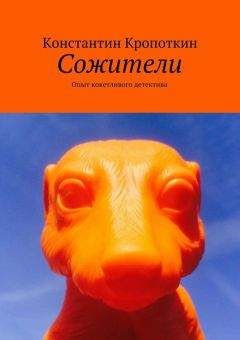Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
Илья бродил по кабакам, наблюдал нравы и их упадок, впитывал салонную эстетику — как пряменько сидят дамы в засаленных салопах и развалясь кавалеры в замасленных чуйках, щепотно едят из пачки чай, отставив мизинец (заранее зажевывают?), под это дело хлещут сивку, поют под клавесин бойко: «Мы с Учителем вчера целовались до утра, целовались бы ишшо — да болит влагалишшо!»
Забьешься этак в уголок поближе к черному ходу — укромно, нелюдно, мимо тебя помои носят — и, осев там, протираешь тряпицей стаканчик, предвкушая — а протирать потому надо, что в Колымоскве всю посуду моют разово, каждогодно, в чистый понедельник на великий пост, разумно, а чаще чего ее мыть — так сидишь протираешь, дыхнешь, снова потрешь — ждешь, когда окрест напьются, потеряют память и тебе поднесут. Стал Илья голь кабацкая. Завсегдатель.
Но однажды, выйдя заполночь из душного кислого тепла по малой нужде и чая не наступить в большое, Илья, увлекшись, прошел меж загаженных сугробов довольно далеко, почти до частокола Заставы, и оттуда оглянулся. Над заснеженными городскими крышами вырастал еще один — «дымный город» — дымы из печных труб сплетались в величественные зданья, новый город складывался в воздухе во что-то новое, в совершенно новый мир — и трижды повторив «новое», отрекшись от надстройки внятного — как радости наелся, словно прозрев, что «достойно есть» — он принялся придумывать про выплавленный из белой глины город-двойник, где чист и нетронут снег. С той белой ночи он, будто подросток, начал писать в тетрадь. Про холод, скитания, огни вдали. Про бедных людей — дурачков и дурочек. Они так ласково меня из дома выгнали на вьюгу… На белом что-либо сложу в своем пути осиротелом — и бледной стужей просечет окно под пляшущею ставней…
Так создавался трактат «Кабак», полное название «Об усовершенствовании Разума, или Так для чего люди одурманиваются (внутренняя физиономия москвалымских кабаков)». Эдакие из-под тулупчика прущие манжетки путешествующего, мемуары визионера, физиологические очерки с искушеньицем. Там Илья — аллегорически — утверждал, что вся Колымосква и есть Кабак Акулька (пьют да морды бьют дык рассуждают) — там мысль живет! — и нет гнета, а есть сакрал эпила — пропади и пей, эх, матерь москвалымских рек Этиль! — и рано, ребята, грибов сушеных да травы вареной бояться — ужасных наслаждений наважденья — когда все население до малых детей включительно по стакану сивки принимает молитвенно по утрам и вечерам (а грудничкам тряпку суют вымоченную, чтоб спали слаще) — и в сугробах бессистемно валяется, и есть такие, что и замерзают синь-пламенем… Людская пустеет! Предрекал Илья, что услышим прям сквозь пургу ржавый скрип коловращенья жизни и вскинемся, но уже настанет Поздно… Недоедалы!
Когда писал — обо всем забывал. Работа на лад — заботы под лед! Делает свободным… Мир матерьяльный, скудно матерящийся над ухом, таял и исчезал. Всего трясло от выражения мыслей. Читал по кабакам истерзанно выбранные места — за кусок ломтя, за похлебку из клубней — но (гольда кабацкая!) гордо, отставя ногу и вытянув руку с тетрадью пред собой. Записи его речений — смутные, исковерканные, со смысловыми оврагами — так называемые «прелестные листы», распространялись и ходили. Именовался он Иван Нави. Многие считали, что он гуманист и мыслитель. Говорили, что он торговцам травой продался и потакает — разносит, зараза, через свою бумагу (из нее кулечки делали, куда дозу насыпать) «грибянку» — от чего морду человечью раздувает до размеров шляпки. Рассказывали также про него, что в сумерках подкрадывается к карликовым березам, прогрызает кору и сок в сивку подбавляет, а от этого у народа немедля рост замедлялся, отросток падал и нос рос наискосок, как сук, — так исак нас всех впросак! А ему в сундук — наличность… Отморозки-побирушки радонежские обещались его сжечь — вначале хотя бы и чучелко. Обидно, что текста не читали, со слов слышали. Или пролистали невнимательно, не до дна. Напугались до судорог. О, ограниченность их, агрессивных, не понимающих, что речь идет просто о пограничной ситуации, о погруженности в никчемность — о, вой иовы! — и автор открыл рот-варежку, провидеть вовсе не желая…
Но прав народ — здря не рвется ноздря! Что-то в Илье с рожденья было не так. Ахер его знает — другой! Рубежи, контуры… И люди это чуяли. Разнотравье москвалымское — и так травят, и этак, и в хвост, так сказать, и в рог… Хорошо, шкуру не дырявили, берегли. Хоть гривенник цена… Как вешки на снегу — этапы славного пути: из школы выгнали (бедагог, хохот вслед), из дома выкинули (не жилец, полифонический вой), из кабака — как апофеоз (беспочвенно-с!) — вышибли (завсегдатель, брань погони). Выгнали, выкинули, вышибли — уже последовательность. И гнались шумгамно какое-то время, мешая размышлять, но, видно, сами понимали — снег мягко летит, да жестко сечет, а Илья умело, уж поверьте, бежит, и далеко им до него, матерого, травленого. Даром ахиллы рвать! Ритуал, больше — не догоним, так согреемся под панцирем. Да и спотыкач действовать перестал, а скучно гнать по струнке. Голоса загонщиков стихали — горе-охотники выбились из сил, искрошились их зубы, ослабели лапы, пропала хватка, утратился азарт… Нормативы сдали, дыхалка хилая. И то — дед пил-пил, баба пила-пила, ну и повыродились добрыни, опупели, а поповичи, вот мол что, раздобрели — жир висит, печенка спеклась, селезенка екнулась.
Илья приподнял рваное ухо шапки и прислушался. Точно, отстали, джейраны ластоногие. Устали дюже… Или — выполнили урок, сайгаки. Оттарабанили лениво заданное, столько-то погонных метров — и ладно, пора по упряжкам. Ушел, решил Илья. Он перешел на шаг, расслабился, стилет из рукава переложил опять за пазуху. Сдвинул запорошенные очки на лоб, поморгал близоруко. Несколько раз поднял и опустил руки, ритмично вдыхая-выдыхая. Потом медленно, плавно — поза «стелящаяся береза» — осел в снег, как чук-паук чащеглазый, погладил снег, словно волосяной покров лежащего Вожака, отогнал снег мысли и стал думать, что теперь делать.
Глава шестая, в которой Илья наконец-то ушел от погони и заслуженно остался один. Бежать больше незачем и главное — некуда. Вот те на. Растерянность. Сидит в сугробе, смотрит сны, замерзает. Снежный змей.
«Куда идти? К кому прильнуть? Где прилечь и проч.» — неустанно мозговал Илья, втянув голову в шинель и уткнув подбородок в колени. Избушки лишен. Да, ускакал косо, спасся, но все-таки — ремиз. Очутился под луной, в сугробе — никаких берез, поза выкидыша — сижу, стыну, мну тетрадку. На душе несменяемое время года — висень. Обжигающее дыхание зимы, дуновение студеного лета, когда хоть тулуп можно распахнуть — чай, один клин… Наигрался на чужой рояли… истаскался в зюзю… Таперича мой адрес — Пьяная улица, Сивушный переулок, дом Вайнштофа, а там передадут…
Вот сор дум — никому не нужен я, некому ни помочь, ни пожалеть, а был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый… И про меня шептались за спиной: «Смыслит и хмельного не берет!» Нынче я сам себе дом. Ящичное очкастое. Наметет к утру вокруг меня холмик, и это будет — Белый Скит. Тот самый — таинственный, недосягаемый скитальцами-мешочниками. Куда им, убогим, с думами о клубнях… Дом-мозг. Медленно падает крупный снег за окнами глаз моих. Как будто листают Книгу — идут буквы. Не на что и глядеть. Все под снегом. Хоть вовнутрь оглобли глазниц поворачивай! Какая там, к ле-Шему, смесь снега с черными пятнами земли, когдатошний короберезовый окрас Колымосквы — давно уже сплошная замерзлая корка сугробов, ледяное бельмо на заду природы. Сериозно! Зато о морозе, неподвижном, как стена, вырублено хорошо. Пройти сквозь — совсем не больно. Пусть кусает. Анестезия. Замерзаю. Потерял чувствительность. Пальцы на руках побелели и будут отламываться, как сахарные сосульки. А ногу буду тянуть ко рту и выкусывать куски льда, намерзшие между когтей. И это я? Вяло — ка-ак не сты-ыдно… Голодно, стыло, силуэт сала — профиль пищи богов, явь на ять… Прошуршит поземка точно справа от стола не допишешь этой строчки заметет на сла… Помарки. Мир померк. И плакальщики кружат по площади карусельно. Засыпаю. «Человек просто поменял дом свой», — говорил дедушка Арон о вечном сне. Снег. Ага. Еще. Обложите меня снегом, чтобы много. Так. Теперь вылепите меня. Заснуть, застыть, нарастить в себе криста-решетку, преобразиться, стать снегом, скрестись в окно — смогу? Окоченеваю, холодно осознавал Илья, превращаюсь в оседлый кочан. С перекати — хреново. «Хорево», — улыбнулся бы беззубо и обезоруживающе дедушка Арон. Илья вспомнил его снежную бороду, субботнюю теплоту (дедушка всегда почему-то писал «халада»), тихое бормотанье: «Аще обрящеши возглавицу мягку, юд, остави ю, а лед-камень подложи». Дедушка часто повторял: «Не можешь бороться — надо смириться. Прими, что дано. Выдолби недлинную ямку и найди радость». Перед тем как воссоединиться с источником (про праведников не говорят — умер), дедушка подозвал Илюшку и прошептал: «Ты поглядывай, я дам знак, как доберусь…»