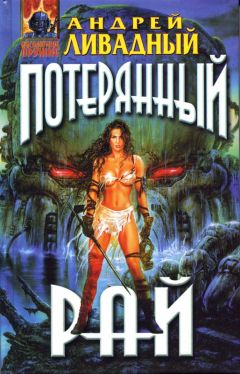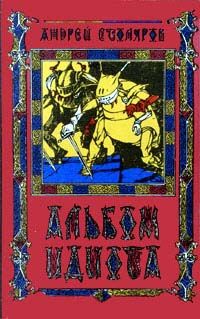Потерянный альбом (СИ) - Дара Эван
…Помню, вскоре после этого мне позвонил парень из школы по имени Невилл и назвался другом Рэймонда; я так понял, мой номер ему дали родители Рэймонда; в общем, он позвонил и сказал, что планировал собрать всех, спрашивал, не хочу ли прийти и я; так однажды вечером мы оказались дома у Невилла, пока его родителей не было; я приехал последним, потому что хватало других дел; и вот я позвонил, Невилл открыл и провел меня мимо чулана и зеркальной стены в гостиную; на столике в углу были чипсы, «Чоколат Таунс» и апельсиновая газировка, сидели человек шесть-семь на диванах и креслах в комнате немаленького размера — там можно было и бильярдный стол поставить; почти всех я знал по школе, в том числе одну девушку, Пегги Мэдден, которую не мог себе представить за разговором с Рэймондом и которая, как правило, ко мне и близко не подходила; но сюда она пришла, и помалкивала, сидя на диване с двумя другими незнакомыми мне ребятами; Невилл никого не представил (видимо, забыл), так что в воздухе ощущалась какая-то туманность, когда я сел на диван на другой от Пегги Мэдден стороне длинной комнаты; люстры светили не так уж ярко, и говорили мы мало, и в какой-то момент я даже заметил, что, пожалуй, слишком громко жую; но потом двое других ребят заговорили про какие-то кроссовки, которые кто-то из них купил — или хотел купить, — потом о чем-то из телесериала «Чирс», а потом, как бы постепенно, мы перешли к Рэймонду, и чувствовалось, как все рады до этого дойти; тут стало тише и еще скованней, когда наконец начали просачиваться слова о нем; и мало-помалу, как бы очень постепенно, люди стали делиться своими воспоминаниями о Рэймонде или его шутками (и как же полегчало, когда кто-то наконец позволил себе рассмеяться), или просто всякими случаями и мелочами; и по ходу дела я заметил, что происходит нечто интересное: тот, кто рассказывал, как будто просто говорил вслух — то есть отпускал слова в мрачную гостиную, а не обращался к кому-нибудь из слушателей конкретно; голоса просто существовали, зависшие и одинокие, и — возможно, парадоксальным образом — как раз из-за этого одиночества голоса действительно притягивали внимание; и вот я откинулся и слушал: один парень, Алекс, рассказал о планах Рэймонда после колледжа переехать в Новую Шотландию и завести там ферму для мелкого домашнего скота; потом девушка — кажется, Сьюзан — говорила о случае, когда они с Рэймондом прогуляли английский, заныкались за забором стадиона на дальнем конце школьного двора и курили ментоловые сигареты; потом Пегги Мэдден рассказала о каких-то чертежах старинных машин — «фордов», «олдсов» и «рео родстеров», говорила она, — которые ей как-то раз принес Рэймонд, чтобы помочь с докладом по книге; а другой парень, со скрипучим голосом, — он начал рассказывать о планах Рэймонда открыть дом ужасов в гараже его родителей и продавать туда билеты, и что Рэймонд показывал ему наброски — наброски манекенов, жутких световых машин и резиновых насекомых-марионеток на нитках; и пошли еще воспоминания, и еще…
…И, значит, я все это слушал, откинулся и слушал; и, признаюсь, был очень рад тому, что рассказывали люди, — их прямодушию и откровенности, тому, что, когда разговор наконец зашел о Рэймонде, никто не ударился в шуточки, сарказм или подколки или не пытался никак уклониться от ситуации; но в то же время, должен признаться, я обнаружил, что не знаю, как относиться ко всему, что слышу; на самом деле я практически никому не поверил — потому что, сказать по правде, никогда не слышал об этих событиях или интересах, ни о чем подобном; а это, если можно так сказать, довольно странно; в смысле, мне всегда нравилось, что Рэймонд казался таким бесконечным — что его чувство юмора и его голоса все продолжались и продолжались, — но тут выясняется, что он был бесконечным во многом таком, о чем я и не знал; а это, должен сказать, как-то беспокоило — хотя заодно и немного утешало; на самом деле, пока я там сидел и слушал, как голоса окрашивают тихую гостиную, ситуация чем-то мне напомнила один фильм; он называется «Расемон», и я, когда его смотрел, в конце почему-то заплакал; помню, мне не хотелось, чтобы фильм заканчивался, пришел к какой-то развязке; хотелось, чтобы он все длился и длился, представлял всё новые версии событий, вводил новых персонажей, чтобы они подкидывали свои точки зрения; поэтому я очень расстроился, когда фильм решил прийти к заключению и в зале включился свет; помню, что домой я шел с кулаком во рту, чтобы не выплеснулись слезы; и вот тем вечером у Невилла я решил, сидя на диване и слушая, как остальные все говорят и говорят, я решил, что сам единственный не скажу ни слова — что свои воспоминания я приберегу и не расскажу о дружбе с Рэймондом; буду просто слушать и участвовать одним этим; потому что тогда, может, если я не скажу ни слова, тогда, может, фильм — фильм о Рэймонде — не закончится; может, тогда он не сможет закончиться; и поэтому я помалкивал и просто слушал, все время повторяя про себя, что, возможно, вношу самую важную лепту в этот вечер — тем, что ничего не говорю; в смысле, если я не смог внести лепту в спасение Рэймонда, я хотя бы могу отплатить своим молчанием — если мой костный мозг ему не подошел, если он несовместим, то я поучаствую, чем могу; и вот что я могу — хоть это и значит, что я просто пришел и сижу и ничего не делаю; в смысле, зато я никогда не стану тем, кто его окончил…
…Впрочем, наверное, это просто очередное выражение неотъемлемой печали звука, дефектной сути звука; в конце концов, звук такой бренный: это не больше чем толчок воздуха, хрупкая последовательность взлетов и падений — мягкая, волнистая, округлая, как «Малломарс», находящаяся в опасной зависимости от среды; звук так непохож на свет с его твердостью, и лучистостью, и вечностью; звук просто растворяется, сияет в пустоту, распрямляет свои изгибы в бесформенность и уходит через атмосферу в космос, где нет направлений, пока не кончается гравитация…; и это тоже печально; ведь так много всего теряется; так много теряется; на самом деле я практически вижу этот процесс прямо сейчас, со своего места — здесь, на крыше; ведь здесь, на крыше, глядя в темнеющее небо, я так и вижу, как развеиваются бесконечные порывы мирового звука — все они бессильно разворачиваются на фоне далеких облаков, растворяются в уравнивающей ночи…; и вот здесь, пока темнеет, а в спину дует ветер, я упираюсь ногами в широкие края прочных досок и возвращаюсь к работе, гадая, что же нового уловлю своей так удачно закрепленной антенной:
— М-м…
— Значит, не было никаких…
— Нет, совсем нет: это мое первое участие в чем-то подобном;
— Значит, у вас раньше не было никаких склонностей…
— А, ну да… наверное…; пожалуй, в мыслях…
— Ну… прошу…; продолжайте…
— Что ж, пожалуй, какие-то сомнения существовали всегда, вперемешку с тихими внутренними голосами; но их всегда получалось успешно игнорировать;
— Потому что, если позволите тут заметить, не так уж часто… ну, такой политический радикализм… возникает в рядах учителей на замену…
— Но какой же это радикализм — вовсе не радикализм; в смысле, если есть какое-то организованное действие, значит, все, это сразу радикализм?..
— Нет, не дум…
— Ух, здорово у вас выходит…
— Ну, я не это…
— Больше того, кажется, мое решение вызвано совершенно консервативным инстинктом…
— Хм?..
— Вот именно: тем, что сродни основе этой страны: демократии — настоящей демократии;
— У всех свое…;
— Так это понимаю я…
— Ладно…; очень хорошо…; но теперь — теперь я бы хотел немного вернуться назад, к тому, как все началось, чтобы дать какое-то представление тем, кто не читал статью в «Оклахоман»;
— Ладно;
— Итак: с чего вы начали, где все это…; расскажите…
— А, полагаю, это только, ну знаете, следствие того, что я живой человек;
— М-м;
— Но первое конкретное событие, которое меня, можно сказать, завело, звучит совершенно просто: я сижу дома, смотрю десятичасовые новости и вижу по телевизору выборы…