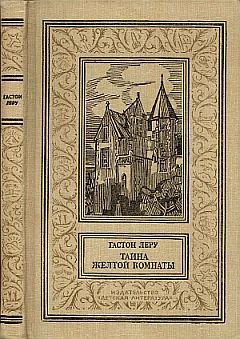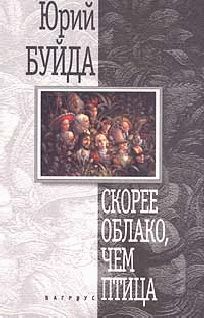Дар речи - Буйда Юрий Васильевич
– Ну я, простите, двоеженец. Поневоле, конечно, но двоеженец. Жена – больна, с ней сиделки, врачи… А мне сорок шесть, и я могу отжаться от пола сто десять раз без передышки…
– И у вас свои потребности, – сказала Шаша.
– Ей двадцать, зовут Ириной, родила дочь, потом сына, она проста как хлеб, и мне это по душе. Живет со своей матерью и детьми в Испании, неподалеку от Таррагоны, в доме, который я купил, и, когда я там бываю – это счастье. А возвращаюсь домой – как в ад…
– Но Данте не отправлял в ад больных шизофазией, – сказал я.
– У каждого свой бог, свой рай и ад, Илья Борисович, говорю это не только как муж тяжелобольной женщины, с которой прожил немало счастливых дней, но и как верующий человек, православный христианин с Богом в душе.
– Отвечу как православный христианин, – сказал я. – Бог должен быть не в душе, а на небе, чтобы мы хоть иногда смотрели на себя в зеркало.
– Илья Борисович… – Жуковский вздохнул. – Я репортер, я кровь в воде чую, понимаете?
– Я понимаю, – сказала Шаша. – Читала вашу книгу о Сосновском – блестящая работа. И очень хорошо передан дух девяностых, когда Бог, дьявол, картофельные очистки, идеалы, советские маршалы, проститутки и колбасные обрезки, ангелы и демоны варились в одном котле с говном, чтобы в конце концов получилось то, что получилось. Очень у вас это ярко и убедительно получилось.
– А еще я падок на похвалу. – Жуковский развел руками. – Мне пора. Сканы и копии документов пришлю вам по почте.
– …Ему, конечно, ни за что не понять, кем и чем была Марго для Дидима, – сказала Шаша, когда за машиной Жуковского закрылись ворота. – Даже я иногда не понимаю. И каково это – в шестьдесят лет узнать, что люди, которым ты всю жизнь поклонялся, не стоят даже плевка Господня?
– Твои представления о физиологии Господа шокировали бы богословов.
– Извини.
– Не хочешь ли прогуляться? – сказал я. – Снег идет, скоро стемнеет, фонари уже зажглись… это разве не то, что мы любим? Полчаса à pied [18] выдержишь?
– Certes. [19]
Когда мы вышли из ворот, Шаша взяла меня под руку.
За деревьями, которые были высажены на разделительной полосе, горели огоньки Левой Жизни. Эти деревья когда-то посадили, чтобы левые не завидовали правым, а правые не думали о левых. Жители Левой Жизни по много раз на дню переходили в Правую, чтобы мыть полы, подрезать деревья, красить заборы, ремонтировать электропроводку, нянчить чужих детей, служить хозяевам в кухне и в постели, но потом возвращались в свои домишки, и только Шаше удалось остаться, стать своей, превзойти многих из тех, кому она от рождения была призвана служить.
До одиннадцати лет она была солнечной девочкой. Так говорила бабушка, так говорила мать, – все говорили. Красивая хохотушка. В одиннадцать лет она взялась шурудить кочергой в печке – и слишком глубоко сунула руку в топку. На ней был свитерок, рукав загорелся. Она была одна в доме. Бросилась к раковине – но воду отключили; ее в Левой Жизни часто отключали. Выбежала во двор, кое-как добралась до медпункта, но фельдшерица уехала в город.
…Была солнечной – стала черной. Мальчишки стали приставать – считали ее легкой добычей, потому что у нее рука, значит, можно. Все вокруг стали врагами, всё вокруг стало темным. Слышала, как соседка сказала матери: «Кто ж теперь ее замуж возьмет? Красивая, умная, это да, но жить-то придется не с ней – с рукой, а это только праведник выдержит».
Выдержал не праведник – а Дидим. Он всерьез принимал ее мечты, помогал осваивать английский и французский, держать нож и вилку, правильно ходить, смотреть, говорить – без насмешек и окриков, как любящий старший брат, как любящий человек. Это не та любовь, которая прямым или кривым путем ведет к семье и детям, а та, что никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Их соитие произошло как будто само собой, оно не было необходимым – оно было неизбежным. Она ни о чем его не просила, он ее – тоже. И когда она осознала всю высоту и глубину этого состояния – не чувства, а именно состояния, то поняла, что ничего лучше и естественнее в ее жизни не было и не будет. И именно поэтому спокойно относилась к его похождениям, к его новым женщинам, женитьбам, изменам: всё это были чувства, а не состояние, состояние же оставалось неизменным…
– О чем ты задумался, Шрамм? – спросила вдруг Шаша, заглядывая мне в лицо.
– О леди Макбет, – ответил я без колебаний. – О причинах ее безумия. Почему она вдруг сходит с ума? Внезапно сходит, немотивированно, беспричинно. Мы видим ее в последний раз – распорядительницей пиршества, принимающей отчаянные меры для соблюдения приличий, когда ее муж впадает в бред. Эта организаторская роль для нее совершенно естественна. С самого начала пьесы она направляла действие, сохраняла хладнокровие, соображала за двоих, не останавливалась ни перед чем, и меньше всего – перед кровью. Ничто не предвещало никаких угрызений совести. И вдруг оказывается, что с какого-то момента она в состоянии думать лишь о том, как эту кровь смыть. Почему же сломалась первой именно она, хотя по всем статьям она гораздо сильнее Макбета?
– И что надумал? – спросила Шаша. – Ну, кроме того что бабы – дуры…
– Макбет и его жена дополняют друг друга. Если он обостренно осознаёт происходящее, всё проговаривает, видит себя так ясно, как очень редко удается героям Шекспира, то ее воображение гораздо богаче. Она не занята самокопанием – она следит за развертыванием представившегося образа, провидит все заключенные в нем возможности на много ходов вперед. Воображение заставляет леди Макбет идти до конца, всегда опережая своего мужа, в каком бы направлении он ни двигался. Он еще только мечтает о том, как станет Кавдорским таном, – а она уже обдумывает, как взять королевскую корону. И то же самое с безумием: у него возникает лишь одна галлюцинация, мотивированная аффектом, тем, что он только что убил своего друга, – а перед леди Макбет уже открывается весь возможный путь к безумию, до конца. И, как всегда, она его проходит раньше, следуя за своим воображением…
– Почему вдруг сейчас об этом задумался?
– Потому что боюсь за тебя.
Она промолчала, только прижалась ко мне крепче.
У вторых ворот дачного поселка нас остановил охранник.
– Извините, господа, тут одна женщина листовки раздает, возьмите – вдруг чем поможете…
Я взял листовку – объявление о пропаже человека – и показал Шаше.
С черно-белой фотографии смотрела девочка с костылем.
«Пропала дочь – Куракина Ольга. Прошу позвонить всех, кто видел ее или знает, где она может быть». Внизу крупно – номер мобильного телефона и имя «Марина».
– Она, – сказал я.
Шаша сунула листовку в карман и ускорила шаг.
– Подожди…
Она резко остановилась.
– Мы просто с ума сошли, – сдавленным голосом проговорила она. – Рассуждаем о Шекспире и Гомере, пьем вискарик, нянчимся с Дидимом, а она там – гниет! Она – там, мы – здесь! Надо что-то делать, Шрамм. Или закопать ее, или сдаться полиции.
Я обнял ее – она вся дрожала.
– Постой, постой, Шашенька, постой… тебе нельзя волноваться… всё понимаю, но тебе нельзя… вообрази себе, что произойдет, если мы обратимся в полицию: ты свидетельница и соучастница, а поскольку я вас не выдал, тоже становлюсь соучастником, но главный обвиняемый – нем как моллюск… хорошо, если он заговорит, – а если нет? Если у него мозги сдвинулись навсегда и он не заговорит?
– Кто-то же должен ответить…
– Должен. Но в меру содеянного. Ты не была за рулем, ты не стреляла. А Дидим – да он наймет таких адвокатов, которые вообще его отмоют добела! При нашем-то правосудии! Вот поверь, следователю и на суде он будет говорить, что подобрал погибшую девчонку на дороге, она уже была мертва, и стрелял не он, а тот, кто ее сбил, то есть не Дидим, а Everyman, господин Кто Угодно. Он же ни за что не пойдет в тюрьму. Он же ни за что не призна́ется в убийстве. Он – Дидим! Он – героическая легенда молодого русского капитализма! За него вступятся все звёзды перестройки, все друзья его легендарного отца, все тайные и явные покровители его деда и бабки, все, кто до сих пор вхож в Кремль, вся либеральная пресса назовет его мучеником безжалостной тирании – ведь это он, Дидим, создал всю эту прессу! И многие ему обязаны именем, карьерой и благополучием. А он – если припечет – сдаст и тебя, и меня, и кого угодно… Потому что – только не в тюрьму, потому что на солнце нет пятен, нет и нет, потому что не может быть никогда!..