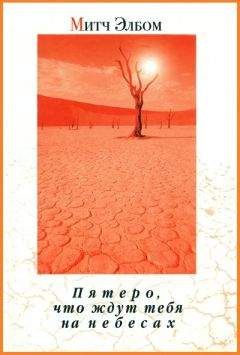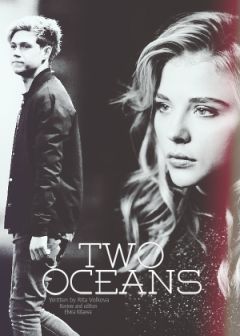Михаил Веллер - Бомж
Он ей кусок бросил, она поймала на лету, а он тихо, ровно говорит:
— Жареная горячая отбивная. Каждому от пуза. Давайте у кого что есть, только тихо, без резких движений.
И Федя медленно подал ему завернутую в пленку сырую сосиску. Капитан ее осторожно развернул и протягивает. Разломил пополам и на ладони дает. А она тянется. И сняла.
Я говорю:
— Эту шерсть пилить — только бритва возьмет. На хрен она тебе сдалась.
— Зима скоро, ее другие собаки съедят, какой смысл, гуманист хренов, — он отвечает.
Белинский от книжки оторвался:
— У вас на свалке все живодеры. Уроды. Ты посмотри на нее! Я ее есть не буду.
— Ладно, будешь жевать и сплевывать. Или Пирамиде отдавать. Вот зимой сдохнете — эти собачки сами вас съедят. Борьба за существование, уроды!
И протягивает ей левой рукой другую половинку сосиски, а правой тянется погладить. И погладил: вцепился в шерсть и тут же оказался на ней верхом, зажал коленями. И всем весом к земле прижимает.
— Держи! — кричит, — задние лапы держи!
А вот ни хрена-то никто не пошевелился. Нет, Федя пошевелился: своими граблями стиснул ее сзади. А псина визжит отчаянно и выкручивается.
— Питекантроп долбаный! — кричит Седой. — Да отпусти ты ее, я тебе полпачки печенья отдам! — Но с места не встает.
Как же, думаю, этот урод ее резать-то будет? Или задушить решил? А это противно, она обгадится, жрать ее потом…
А он левым локтем зажимает ей шею, а правой рукой достает из кармана гвоздь и всовывает ей в глаз. Дернула она два раза лапками, и затихла, бедолага.
— Ты здесь-то не свежуй, — сказал Федя. — Мы здесь отдыхаем. В сторону отойди.
Капитан оттащил тушку под стену, а мы развернулись и смотрели.
Он вытащил хозяйственный нож с пластмассовой ручкой и потемневшим лезвием, поплевал на обломок кирпича, поточил. И стал отпиливать собаке голову. Темной крови было на земле совсем немного. Он отпилил, поднял за ухо и отставил в сторону.
Белинский вдруг сказал:
— А интересно, как готовят собак корейцы? Надо почитать. Наверняка же есть много книг по корейской кухне.
А Капитан отвернул рукава; нож в правой руке; вложил лезвие между указательным и средним пальцами левой, как в ограничитель, только сантиметра два острия торчало, и взрезал брюхо от грудины до хвоста. Запустил руку и вырвал легкие вместе с трахеей и пищеводом. Потом выгреб кишки. И оттащил тушку в сторону. Провел разрез вверх до горла, а потом вдоль внутренней стороны лап до центрального разреза. Отложил нож и одной рукой стал край шкуры оттягивать, а кулак другой всовывал между шкурой и мясом, разделяя их. Ободрал. Умело так ободрал!
А мы молча сидели и смотрели.
Он поднял безголовую окровавленную шкуру с хвостом и заржал:
— Кому на воротник? — И откинул.
— Пакет чистый подайте, — скомандовал он, и Федя принес ему пакет и постелил. Капитан стал срезать куски мякоти и складывать на пакет.
— А кто за бухлом-то побежит? — руководил он уверенно. — Хавку я обеспечил царскую!
Никто не ответил и не посмотрел. Не вытанцовывалось ничего.
— Ну че сидите? — крикнул он нам. — Огонь-то сделайте!
Я пошел в ангар раскладывать костер, прихватил кусок поддона. Седой пожал плечами и присоединился.
Ну что. Нажгли досок, между двух железных коробов положили ряд арматурин, а на арматурины те были нанизаны шашлыки, вполне обычного вида. Темно-красное мясо. Которое на глазах светлело, а потом делалось коричневым. Запах, конечно, обалденный пошел, прямо желудок заволновался, в хорошем смысле.
— Эх, лучка бы, — прищелкнул Капитан.
Н-ну — ели без лука, без помидор, без хлеба, но главное — без водки. Без любого бухла. Ароматное, горячее, удивительно сытное мясо.
— Вкусно, черт, — признал Седой, чавкая.
— Действительно похоже на баранину, — светским тоном откликнулся Белинский, вытирая растопыренный ладони об учебник. Не понравился ему учебник.
Я думаю, сожрали мы не менее чем по килограмму. Федя отдулся, рыгнул и треснул Капитана в правую скулу.
— Ты че, охренел, ушлепок?! — заорал Капитан, поднимаясь с пыльного цементного пола.
У него был фингал на левой скуле, а теперь будет такой же на правой.
— Извини, братан, — сказал Федя. — За обед — братское тебе спасибо. Давно так не ел, это правда. Смогу — тебя угощу. Но пойми ты меня тоже — ну не смог я стерпеть!
Спасите наши души
А здесь мы на воле — внизу, а не там. Высоцкий был гений во всех смыслах.
Все счастливые люди счастливы по-разному, все несчастные несчастны одинаково. Как-то так начиналась, кажется, какая-то знаменитая книга. А может, и не так. Какая нам хрен сейчас разница.
Можно было бы много рассказать о каждом, кто спустился к нам сюда на дно. Интересный был бы такой роман — «На дне». Народу — не протолкнуться.
Вот этого обманом выписали из квартиры. Вот эту выгнали дети. Вот этот вообще с детства детдомовский. Этот залетел по дуре на зону, а потом нигде не хотели брать на работу. А этот был блатным, но спился, опустился, а может, ему все потроха отбили в ментовке, а может и кореша, и теперь он доживает остаток, ждет спокойно конца. А этот вообще был кандидатом наук! А это товарищ прапорщик, знакомьтесь (прапорщики почему-то пьют ужаснее всех). Но общее у всех одно. Сломанные люди.
Но не бывшие, нет! Может здесь, на воле, когда опускаться уже некуда и бояться нечего, истинная сущность в человеке и проявляется! На изломе-то оно все нутро виднее, кто из чего сделан.
Человек ломается совсем не так, как себе представляют. Представляют: крак, и хребет с треском ломается, как ветка, и тогда человек сломан. Глупости.
Ломание человека происходит постепенно и обычно незаметно ему самому. Это не ломание — это жизнь его постепенно гнет. Сначала исподволь, вообще непонятно: копится внутренняя усталость, бессилие, безнадежность. Как бы это сказать: агрессия постепенно выдыхается и сменяется равнодушием и смирением. Все меньше сил противостоять обстоятельствам. Препятствия вселяют тревогу и тоску, их хочешь избежать. Работать все мучительнее. Даже в выходные делать что-то по дому мучительно. А лежать и ничего не делать — прекрасно; отрадно; хорошо.
В чем сила, брат? А сила в самой силе, брат. Вот хочешь и можешь ты что-то сделать — значит, сильный. А не хочешь и не можешь — значит, нет в тебе силы; значит, слабый. И когда кончаются в тебе силы — хана тебе, мальчик. Любой ветерок тебя из хилой почвы выдернет и понесет куда захочет. И в результате принесет на помойку. Милости прошу к нашему шалашу.
Не помню, у кого был гениальный рассказ: мальчик (в 19 веке, что ли) с восьми лет работал, помогал кормить семью, надрывался. А в шестнадцать лет вдруг почувствовал однажды утром, что силы кончились, и долг перед семьей кончился, и любовь кончилась: послал он родную семью на хрен, спокойно так, и ушел бомжевать куда глаза глядят.