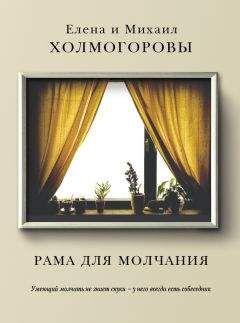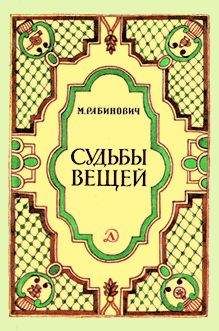Михаил Холмогоров - Второстепенная суть вещей
А это уж дух города таков. Он и рождает чудеса, непредставимые ни в одной из чопорных столиц. Что тому причиной? Болота? Так Амстердам тоже на болоте стоит, а ни о чем подобном и не слыхивали. Туманы? Так и Лондон туманами славен. Да только не мигают старухи из игральной карты в столице Альбиона. В Петербурге же чудеса и нынче случаются. Один очевидец, славный своей правдивостью, уверял меня, что на областной партконференции коммунисты Ленинграда году в 73-м единогласно избрали секретарем обкома по идеологии нос майора государственной безопасности товарища Ковалева. И я ему верю. Потому что сам был свидетелем скромного на вид чуда. В свой последний приезд я оказался на Гороховой. Когда-то она была улицей Дзержинского и никаких ассоциаций не вызывала. Кстати, об имени этого славного революционера. В обеих столицах произошел с ним странный эффект. Когда в поезде метро объявляли: «Следующая станция „Дзержинская!“» – никто и ухом не вел. А как скажут – «Лубянка!» – так и вздрагиваешь. То же и в Петербурге. Как скажут – «Гороховая», тут и образ охранки, и первые дни свирепой ВЧК… Но я человек литературоцентричный, и Гороховая для меня – местоположение дивана Ильи Ильича Обломова «в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город». Вот он, этот дом. И на соответствующем месте должна же быть мемориальная доска! Она и висит. Затейливым таким шрифтом… Но вместо ожидаемых слов «Здесь жил Илья Ильич Обломов» что же я читаю? А вот что: «В этом доме в 1905–1906 гг. помещался Профессиональный союз труженников трактирного промысла гор. С.-Петербурга». И подпись грамотеев, чью орфографию сохраняю: «Лен. Губ. отдел проф. союза рабочих нарпит и общежитий С.С.С.Р.».
* * *Москва и Санкт-Петербург исстари живут взаимной завистью. У каждого находятся свои «зато». Но это та зависть, о которой один петербуржец московского происхождения писал: «Зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего роду».
Самое удивительное в истории этих городов – оба пережили состояние «порфироносных вдов», но и во вдовстве сохранили гордую столичность. Оба своей судьбою доказали, что столица – едва ли не в самом бюрократическом из государств – понятие не казенное, и не в царской воле определять это качество великого города. Петербург ХХ века доказал это, пережив…
Чего только не пережил в минувшем столетии Петербург!
Одних переименований было три.
Железным занавесом прочно заделывалось окно в Европу. Истреблялось «наследие царского режима», а заодно и свободы, отвоеванные у пресловутого режима в 1905-м и в феврале 1917-го. Возвращалось всё на круги своя.
Когда Ленинград вновь переименовали в Санкт-Петербург, в сопровождение возрожденному имени зазвучало определение – «северная столица». Этот стихийный эпитет вырвался из чьих-то уст и пошел гулять по газетным полосам, по эфиру, добрался и до житейской речи. А значит, слово зацепило истину.
Порфироносное вдовство – особый крест. По грибоедовской пословице – «Гоненье на Москву». С марта 1918-го началось гоненье на Санкт-Петербург. Здесь с особенной силой буйствовал красный террор. В 1921 году Москва, новая столица пролетарского государства, еще не отваживалась на такую чудовищную провокацию, как «дело профессора Таганцева», по которому десятки людей, цвет петроградской интеллигенции, по удивительно нелепым, вычитанным из самых дурных детективов обвинениям были арестованы и всего через три недели скоропалительного следствия и суда расстреляны. По счастью, один из арестованных – искусствовед Николай Николаевич Пунин – уцелел, и сохранилось его письмо из тюрьмы тестю Е. И. Аренсу:
«7 августа 1921 года. Шпалерная, 25.
Пока никаких существенных перемен, не получил еще ни одной от Вас передачи, и это меня беспокоит – все ли вы здоровы. При первом случае пришлите мне мыла, зубн. щетку и спичек, очень хочу папирос… Встретясь здесь с Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом, как шалые, в руках у него была «Илиада», которую от бедняги тут же отобрали…»
Зачем победившему пролетарию поэт Гумилев с томом «Илиады»? Наверняка ведь враг.
А кто убил Кирова? Конечно, ленинградские интеллигенты, тут и сомнений никаких не должно возникать, и город пережил опустошительные аресты и ссылки так называемых «бывших». А имя убиенного советского чиновника – коротконого скуластого партийца в полувоенном френче, галифе и сапогах – на многие десятилетия присвоили театру оперы и балета.
Еще не утих террор, началась война, и за дело истребления петербургского столичного духа взялся Гитлер. Но ведь недаром же сказано: «И врата ада не одолеют ее».
Сколько надежд породила победа! Город своим героизмом вырвал у большевиков свои названия – Невский проспект и Дворцовая площадь: не проспекта же 25 октября левая сторона особенно опасна во время артобстрела, и не на площади чекиста Урицкого разводили спасительные огороды. Ждали и других послаблений, посерьезнее, поглубже… Но в России всегда так: после побед торжествует мародерствующая реакция. Сперанских сменяют аракчеевы.
Идеология побежденного фашизма стала официальной идеологией сталинского режима. И ее первая акция – удар по лучшим ленинградским писателям Ахматовой и Зощенко, по ленинградским журналам, посмевшим робко заявить о наивных надеждах. Почему-то при торжестве национальной идеи первым делом вытаптываются цветы нации. Грубо, но тщательно. Кстати, и помянутый Пунин, избежавший гибели в 21-м и в 35-м, за космополитизм и преклонение перед вредным импрессионизмом не снес головы: он погиб в воркутинских лагерях.
А все ведь равно страна втайне сострадала жертвам, и каждое слово, брошенное вскользь опальной Анной Андреевной, разносилось по комнатам русских интеллигентов обеих столиц с немыслимой скоростью и всегда с буквальной точностью. Читая сейчас мемуары об Ахматовой, очень часто узнаешь давно знакомые фразы из тихих разговоров взрослых в сороковые-пятидесятые годы.
Уже и Сталин давно истлел, а его политика превращения Ленинграда в обыкновенный провинциальный город, эдакий многомиллионный Урюпинск, не прекращалась, и каких только невежд и хамов не перетерпела северная столица своими начальниками. Нет, не сокрушили тяжеловесные, неотесанные партчиновники легкого столичного духа Санкт-Петербурга. И в самые душные годы он оставался окном в Европу, через форточку которого выпархивали на легких ногах-крыльях вольные птицы – Нуриев, Барышников, Макарова… Не приказами ни со Старой площади, ни из Смольного жив столичный дух. А веселыми шутками повес, фланировавших в разные времена по Невскому, удушьем – от нехватки воздуха – Блока, застигнутым врасплох с «Илиадою» в руках Николаем Степановичем, царственными манерами жены его Анны Андреевны. Как столичный дух Москвы витал в коридорах первого российского университета, и в частности – в 11-й комнате, в Румянцевском музее и библиотеке при нем, на Тверском бульваре да на Арбате. Он и сейчас витает не над Белым домом и Госдумой, а призраком Воланда над Патриаршими прудами; он ощутим в глухом баритоне Пастернака, звучащем из каждой его строки, в тихом голосе бывшего трамвайного кондуктора, разменявшего сотню на гривенники; сквозь «новорусское» роскошество напоминает о себе безбытным житием Марины Цветаевой и арбатского философа, чей портрет – «голубые глаза и горячая лобная кость» – оставил другой трагический певец обеих столиц, да мало ли в чем еще – неуловимом, но постоянном и неистребимом…
И два стольных града притягиваются друг к другу над полотном некрасовской «Железной дороги», и вот уже три века, соперничая во всем, жить друг без друга не могут.
O, RUS!..[2]
Е. Холмогорова, М. Холмогоров. КАРИКАТУРА ЮЖНЫХ ЗИМ
Меньше всего хотелось бы вставать в длинную очередь празднославящих «наше все». Да и страшновато пускаться в рассуждения о Пушкине. Хлестко и беспощадно он предупредил всякого, кто тянется к белому листу:
О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте – наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена – прямым ли вдохновеньем,
Иль необдуманным одним поползновеньем,
И чешется у вас рука по пустякам…
Творчество Пушкина – не пустяк, разумеется, но сколько пустяков наговорено в его честь!
Много лет назад в то время, когда перестройка и гласность были еще отдаленным светлым будущим, во всех советских школах задавались домашние сочинения на пушкинские темы. Изобретательные старшеклассники спешили в читальные залы, чтобы познакомиться с тем, что ученые люди писали по этому поводу. А там, глядишь, и прихватить мыслишку-другую. Самой большой удачей было найти книжку точно по теме сочинения (скажем, «Пушкин – выразитель идей декабристов»), да еще и не слишком толстую. Так что юбилейные брошюры 1937 года издания шли нарасхват. Бедные школьники 60-х годов, уже не понимавшие тогдашнего пафоса, но еще не впитавшие духа отрицания, списав десяток «умных» фраз, впадали в столбняк от финальной страницы, где выражалось сожаление, что Пушкин не дожил до счастливых и свободных советских времен. Подпольные тексты еще недоступны, и объяснение такому феномену, данное Осипом Мандельштамом: «Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов», – они узнали позже.