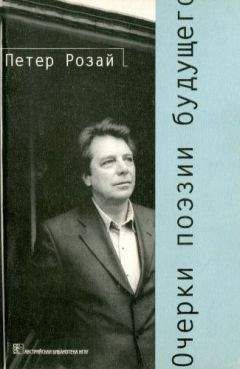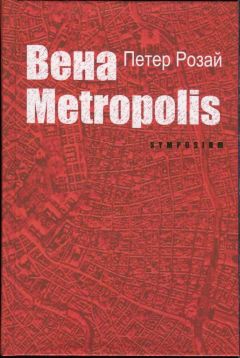Петер Розай - Отсюда - туда
Нередко, очнувшись от дремоты где-нибудь в подворотне или на углу улицы, я не сразу соображаю, где нахожусь, который час и что я вообще тут делаю. Как-то раз, бросив взгляд на монеты в шляпе, я вдруг ясно понял, что меня обокрали, и начал громко звать полицию. Но когда сбежались прохожие и стали смеяться надо мной — дескать, рехнулся парень, спятил совсем! — я догадался, что поднял ложную тревогу, умолк и под улюлюканье толпы пристыженно улизнул прочь. Случилось так, наверное, оттого, что мне приснился сон о первых днях в городе, когда меня обворовали уличные мальчишки. В тот злосчастный день — а он уже клонился к вечеру — позднее солнце заливало этот уродливый город морем ласкового мягкого света. Дома, как всегда, выглядели нежилыми и заброшенными, но в них шла своя жизнь, и женщины, высовываясь из окон, развешивали пестрое белье. Шуршанье веревок по блоку, хлопанье простынь на ветру, болтовня и смех женщин — все это создавало иллюзию счастливой беззаботной жизни. Из подъезда с веселым криком выскочили дети, то ли преследуя какую-то худущую собаку, то ли гоняя пустую консервную банку, но уж никак не спасаясь от злобного привратника. Я с умилением смотрел на их забавы, не придавая особого значения тому, что сорванцы незаметно окружили меня. И надо сказать, намерения их были не столь безобидны, как казалось со стороны. Пока я, улыбаясь, разглядывал их диковинные лица (у большинства были беззубые рты и остриженные под ноль головы, потому что дети жили в зараженных вшами квартирах), так вот, пока я благодушно смотрел на этот веселый тарарам, маленькие негодяи ловко обчистили мои карманы. Когда я спохватился, ребят уже и след простыл, лишь издалека доносились их крики. Со всей быстротой, на какую только способны мои ноги, я обогнул несколько домов в надежде схватить воришек. Но на улице, где я рассчитывал их застать, не оказалось никого, кроме старика, с непостижимым упорством подметавшего один и тот же кусок тротуара. На вопрос, не пробегала ли здесь ребячья ватага, он покачал головой, отвернулся, постучал метлой о стену дома и с упрямством маразматика вновь принялся драить и без того чистый асфальт. Словно в насмешку надо мной, как раз в эту минуту ветер принес нахальные голоса моих обидчиков. Дважды я почти настигал их, но так и не настиг. Усталый и раздосадованный, я стоял в узком переулке, проклиная воров, и вдруг подумал, а не заодно ли с ними старик. Позднее я убедился, что мои подозрения были совершенно необоснованны. Вернувшись на ту улицу, где был старик с метлой, я увидел, что он тоже исчез. В грязных окнах играли лучи заходящего солнца, вниз по улице с громким шорохом летел газетный обрывок. Тут моя злость сменилась страхом; не чуя под собой ног, я бросился бежать — и бежал, пока не достиг более людного места.
С тех пор меня преследует дурацкая боязнь стать жертвой воров. У меня нет ничего такого, на что они могли бы позариться, и все же я часто останавливаюсь и оглядываюсь назад: нет ли там каких злодеев? Но, чуть захмелев, я мгновенно забываю о простейшей осторожности. Войдя в кабак, высыпаю из карманов на стойку все свои деньги. Я никогда не пересчитываю их, поручая это хозяину, и с вожделением смотрю на полки за его спиной, где мерцает в темноте батарея бутылок.
— Хватит? — неуверенно спрашиваю я. — Хватит? — бормочу я, без конца облизываю губы и нервно переминаюсь с ноги на ногу, пока хозяин наконец не смахнет деньги в ящик, а потом, неуклюже повернувшись, не протянет мне бутылку какого-нибудь пойла. Разумеется, он меня частенько надувает, достаточно взглянуть на его хитрую оплывшую рожу, чтобы понять это, и я вновь даю себе зарок всегда пересчитывать перед кабаком свою наличность, но, придя с дрожащими коленками и чугунной головой к заветной двери после бесконечных скитаний по городу и заслышав звон стаканов и бутылок, я мигом забываю о своих благих намерениях. Вверх по ступенькам, пинок в дверь, деньги на стойку — эти три действия сливаются в одно. Иногда (увы, нечасто!) у меня набирается денег на две бутылки — достаточное количество, чтобы не просыхать несколько дней кряду. Впрочем, мне и этого мало. О чем я мечтаю, так это о вечном опьянении. Правда, мне это не по карману — ни сегодня, ни завтра. Но даже будь у меня денег что песку морского, они бы меня не спасли, ведь, очнись я хоть на секунду, все бы стало ненужным: пьянство, нищенство, мучительное вставание по утрам, выход из дому, каждое мое движение и вообще вся моя жизнь.
В предутренние сумерки меня будит ледяная стужа: оказывается, назюзюкавшись и не имея сил дотащиться до дома, я ночевал на мостовой. Земля холодная, как остывшее тело покойника. Лицо мое одеревенело от мороза, руки и ноги занемели. Даже ругнуться нет сил. Сперва я шевелю руками очень осторожно, боясь, как бы они не сломались, затем начинаю быстрее и быстрее хлопать себя по бокам. Немного оклемавшись, я отправляюсь в гавань в надежде раздобыть что-нибудь съестное. Сколько бы я по дороге ни рылся в карманах, денег не прибавляется — пусто, ни гроша! Ну и холод, думаю я, и от этих мыслей меня пробирает еще больший озноб. Я пускаюсь бежать, но бег мой не долог: для хорошей пробежки я слишком слаб. Иногда я задерживаюсь у какого-нибудь трактира, уже открытого в такую рань, и жадно втягиваю носом водочные пары. Они придают мне немного бодрости. По крайней мере мне так кажется, когда я стою у дверей и гляжу на свое отражение в грязных окнах — синие тонкие губы, заострившийся нос; стоит мне провести рукой по волосам, как перед глазами начинают кружить тощие серые птицы. Из трактира падает желтый дымный свет, образуя на земле яркий четырехугольник. В нем черный силуэт — моя тень. Глазные яблоки мои похожи на большие желтые пергаментные шары, и меня преследует неотвязный страх, что они вывалятся и я, ослепнув, останусь на утренней мостовой. Ужас гонит меня прочь. До гавани рукой подать, но дорога кажется мне бесконечной. Из подворотен и котлованов выползают калеки, бродяги, нищие. Я от них абсолютно ничем не отличаюсь: я состою из одного лишь голода, и в них тоже ничего, кроме голода и инстинкта жизни, не осталось. Пусть ты исчезнешь — эта улица все равно не вымрет, думаю я, все равно по ней будут слоняться такие же, как ты, небритые и грязные шелудивые люди, никто не заметит твоего отсутствия, потому что другой займет твое место и будет исполнять твою роль, как ты, — плохо или хорошо, — уж так повелось меж людьми. Наступающий день висит над городом давящим облаком. В небе, высоко над самыми высокими башнями, уже рассвело, и в лучах солнца поблескивают парящие частички сажи. Я попадаю в засаженный диковинными деревьями большой приморский парк с концертной эстрадой посредине. Все заросло бурьяном, и только посыпанная галькой главная аллея хранит следы танцевальных вечеров, бывших тут в лучшие времена. На садовых скамейках потягиваются спросонья бродяги, складывают одеяла, плащи и щурятся на раннее солнце. Быстро и молча они хватают свои пожитки, спешат на набережную, надеясь разжиться какой-нибудь едой. Однако большинство поспевает к шапочному разбору. Те, что пришли сюда первыми, подобрали все объедки, после них осталась уж вовсе несъедобная дрянь, да и ту давно растащили чайки. Эти птицы, некогда радовавшие мне глаз воздушными играми и стремительными падениями, со временем стали для меня символом голода. Ночами я просыпаюсь, разбуженный кошмаром: крики чаек и всюду в темноте их жадные клювы.
Ранним утром залитая солнцем бухта кажется широким, почти четырехугольным зеркалом. На белой дымящейся воде стоят черные трапеции кораблей. По склонам гор лениво поднимаются сонные облачка тумана. Я смотрю на маяки по обеим сторонам входа в гавань. В эту пору суток они прекращают свое предостерегающее мигание. В открытое море, гудя, выруливают лоцманские катера. Вдали яркими золотыми точками сверкает водная гладь. В твоих глазах тоже сверкают точки, думаю я, красные и изумрудно-зеленые в радужке; опустив веки, я слышу, как о волнорезы бьется прибой, я дышу, дышу в такт моря, и, когда волны набегают друг на друга, во мне поднимается какое-то неизъяснимое чувство — счастливая боль, болезненное счастье, — и я изо всех сил сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. В такие минуты я уже не жалкий бродяга, и все это — безработица, голод, нищенство — остается позади. Ты подкидываешь монету, думаю я, она переворачивается в воздухе, орел-решка, орел-решка, падает, катится по земле и наконец ложится не на ту сторону, да так быстро, что и заметить не успеешь. Сунув руки в карманы, я часами стою неподвижно и смотрю на восходящее над морем солнце.
Когда я чувствую в себе достаточно сил, я отправляюсь в порт, к угольной стенке. Бывает, на час-другой и мне дают работу. Долго кидать уголь я все равно не могу. Лопаты тяжелы и захватывают разом чуть ли не полцентнера, во всяком случае мне так кажется. Получив наряд, я раздеваюсь, повязываю нечто вроде фартука и взбираюсь на черную скользкую насыпь. Бросив первую же лопату, я покрываюсь испариной. Пот смешивается с угольной пылью. Корабль и люди, горы и башни — все плывет у меня перед глазами. Я закрываю их, чувствую, как к горлу подступает тошнота, кидаю уголь вслепую, с остервенением, но угольная гора не уменьшается, не желает уменьшаться, однако я должен заставить ее исчезнуть — как чародей, я должен заставить ее исчезнуть, потому что платят мне не за часы, а за центнеры. Иногда я делаю короткую передышку, бросаю взгляд на голые скалистые склоны, которые кончаются в вышине острым гребнем, и на небо, чью голубизну не согревает даже солнце.