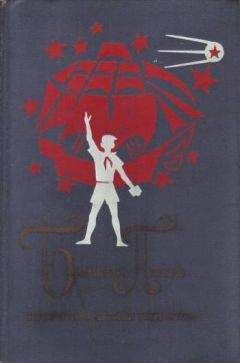Феликс Кандель - Слово за слово
Вот он подумал однажды: расстреливают, дают последнее слово, самое последнее! – а сказать-то нечего. Нечего выкрикнуть горлом, выхаркнуть кровью, легкие вывернуть наизнанку, чтобы вздрогнули на прощание, обернулись, запомнили хоть на миг.
День целый ходил, думал, томился: пошлость одна на уме.
И вечером, когда вдова Маня утихла на лежанке, он вынул из сундука заветный RELIEF-ALBOM, уложил его на клеенку и стал записывать потихонечку, под Манино сопение, макая перо в чернильницу, посыпая написанное мелким просеянным песочком, как в прежние времена.
Косное поначалу, туманное, мыслей просвеченное под конец.
Он писал:
"Всякая тирания, которой предстоит борьба с инакомыслием, должна смириться с ожидающей ее в будущем эволюцией противника. Сначала против нее выступят мамонты, прекраснодушные травоядные идеалисты, с которыми она справится быстро и без особых хлопот. Мамонты самой эволюцией обречены на нежизненность, и их уничтожат легко и просто. Им, мамонтам, ничего не надо, кроме – разве что – справедливости, а за неимением таковой в природе они могут вымереть и сами, стоит только подождать. Но на смену мамонтам придут гиены и шакалы, племя более мелкое, но зато и более многочисленное. Этих уже одной справедливостью не утолишь. Этим злость застилает глаза при виде неравномерного распределения продукта. Этих надо бы подкормить, да погладить по шерстке, но и их уничтожит тирания под видом инакомыслия. Ошибкой было убивать мамонтов, которым надо поровну распределить траву. Ошибкой – убивать шакалов, которым нужно мясо поровну с их силой и алчностью. Потому что на смену этим придут новые противники – крысы. Бесчисленное половодье врагов, которые будут рваться к горлу, только к горлу, слепые и беспощадные в погоне за кровью, которых ничем уже не утолишь. Они-то и поборют вашу тиранию, подгрызя сначала поджилки, чтобы упал колосс и открыл доступ к беззащитному горлу. Они-то и победят, и установят новую тиранию – безжалостного большинства, что будет пожирать самое себя, оказавшееся в меньшинстве. Нет, всякая тирания – если она, конечно, умная тирания – обязана беречь травоядных врагов-мамонтов, бороться с ними вяло и бесконечно, чтобы – не дай Бог! – не пришли на смену мамонтам иные противники. Но где вы встречались с умной тиранией?.."
– Женись, женись, – подпугивала Маня с лежанки. – Вот ужо скажу внуку, он те чих-пых устроит...
Внука у Мани тоже не было.
Внука распластали в турецкую еще войну, саблей напоперек.
Турок душит, сердца рушит,
Пламем, огним и копьем…
Но Маня об этом позабыла.
По воскресеньям, когда делать было нечего, забредал поскучать Усталло Лев Борисович, рассказывал Лазуне грустно и застенчиво:
– Дети растут. Дети вырастают. И уходят в собственный мир, куда нет тебе доступа. Это была ошибка: завести одного ребенка. Детей нужно много. Очень много. Чтобы всегда бегал маленький в доме... Что вы на это скажете?
– Я скажу на это, – говорила Маня от телевизора и губы поджимала на незваного гостя. – Я тебе так скажу. Заимели власть, ворвались – ног не вытерли, потеснили, запоганили, загваздали пол. С того и пошло.
Усталло Лев Борисович уходил к себе, сутулясь от огорчения, и Лазуня ей выговаривал:
– Злопамятная ты старушка! Зачем человека обидела?..
К тому времени они уже закрыли границы.
Ввели прописку.
Подключили мощные свои заглушки.
Мир суживался стремительно, на глазах, просторный когда-то мир, и врачи на приемах подбавляли свое.
– Вы не бегайте, – говорил первый врач. – Зачем вам бегать? Не надо. Ходите себе потихоньку.
– Вы не загорайте, – говорил другой. – Категорически. Вам это не нужно. Вам – вредно.
– Коньяк, – говорил третий, – ни-ни. Водку – тоже. Пиво тяжелит. Кофе волнует. Молоко пучит. Мясо возбуждает.
И мир сузился до размеров комнаты.
Но Лазуня сопротивлялся. Лазуня упрямо бежал по универмагу, пихаясь локтями, обгоняемый и обгоняющий, а за дальним прилавком стояла старая продавщица, глядела на него жалеючи.
– Не завезли, – говорила продавщица, и Лазуня покорно брел назад, чтобы назавтра повторить всё сначала.
Он вставал до рассвета у дверей магазина, жался в густой толпе, нервно перебирал ногами и врывался потом вместе со всеми – по этажам, по лестницам, к нужному ему прилавку.
– Не завезли, – говорила жалостливая продавщица, и сердце снова выпрыгивало из горла.
Были у него уже знакомые в толпе.
Были соперники на дистанции.
Были и редкие счастливцы, что добегали первыми и захватывали единственные экземпляры.
Через два месяца попыток, когда окрепли ноги и установилось дыхание, Лазуня добежал третьим, а завезли их всего – четыре.
Он купил радиоприемник "Рига-10" и под завистливые взгляды обделенных уволок домой.
Теперь он сидел возле него ночами, прорывался через заглушки в просторный и запретный мир, переживал и пугался.
Однажды через вой и скрежет пробился ехидный вражий голосок. Он издевался над отцом народов, этот поганец, так изощренно и так изобретательно, что Лазуня дрогнул, пошатнул тумбочку, и вожделенный радиоприемник "Рига-10" вдребезги разбился об пол.
Надо бы снова бежать по магазину, да денег не было больше, сил не стало, и мир сузился окончательно до размеров комнаты.
Он писал:
"Монополии на человека нет ни у кого, хоть многим очень бы хотелось ее заиметь. Всякая монополия, если она состоится, будет устанавливать свой коридор, по своему масштабу и разумению, где вольно станут резвиться обделенные, где приспособятся более терпеливые к постоянным стуканиям о стены и где невмоготу будет натурам неограниченно богатым. Всякая монополия должна быть готова к тому, что ее вечно будут нарушать, подтачивать и подкапывать изнутри, чтобы вырваться на просторы человеческого разума. Монополия на спиртные напитки возможна. Всё равно будут курить самогон. Монополия на человека чудовищна. Она отрицает самого человека..."
– Поговори у меня, – грозилась Маня с лежанки. – Скажу правнуку – он те ужо отвалтузит...
Правнука у Мани тоже не было.
Правнук сгинул еще в Порт-Артуре, его косоглазый на штык насадил.
Этих косоглазых, как мурашей на кочке, – их разве передавишь?
Но Маня этого не помнила.
По вечерам, когда дальнобойный Потряскин гужевался с Груней и дом подрагивал от танковых усилий, вдова Маня выходила в коридор, скреблась в ихнюю дверь.
– Груня, – говорила льстивым голоском. – За мной должок, Груня. Я те хлебца принесла навозврат да яиц пяток.
Но Груни за дверью не было.
Груня летала в этот момент в безвоздушных пространствах, где не нужны уже ни хлеб, ни яйца, ни прочие земные услады.
– Бабка! – ревел из-за двери великолепный Потряскин. – Броня крепка и танки наши быстры, бабка! И наши люди мужеством полны!..
И Маня уходила довольная.
– Зловредненькая ты старушонка, – отчитывал ее Лазуня. – Всё-то тебе неможется.
И снова садился за клеенчатый стол: листать свой старинный альбом, читать прежние записи, вспоминать, думать.
Все альбомы и стихи
Суть ничто как пустяки.
И советую тебе
Не держать ихъ въ голове...
В каждом учреждении свой беспорядок.
У одних строгая тишина в комнатах, чистота, рабочая обстановка, а в курилку не войдешь – полно.
У других огромный коридор, и по нему с деловым видом ходят сотрудники. Весь день. Сомкнутыми рядами.
У третьих беспорядок веселый, суматошный. Нужен документ – все бегут за документом. Нужен отчет – все за отчетом. Кучей. Наперегонки. Шумно и радостно.
Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак. Но если ты начальник, а я не дурак, – что тогда?
Лазуня Розенгласс поменял много работ, нигде надолго не задерживаясь.
Говорили, что он ленив, вял и неинициативен.
Но он не был ленивым.
Всякий раз перед новым делом он продумывал смысл будущей работы, и не было желания начинать ее, не было сил закончить.
Он писал: "Так где же нам взять свежие мысли, великие идеи, грандиозные, взахлеб, свершения? Всё, что мы обдумываем, давно уже думано-передумано, пока мы давились под плитой. Всё, что мы решаем, давно уже решено и отброшено за ненадобностью. Всё, что мы предвосхищаем, давно уже позабыто в пыльных архивах. Что же остается взамен? Дутость имен. Несуразица жизни. Мерзость ленивого запустения..."
Соня и Броня, синие от недоедания, заглядывали, бывало, на огонек и криком спрашивали с порога:
– Товарищ Розенгласс, разъясните нам, пожалуйста, текущий момент.
Соня и Броня с радостью интересовались всем на свете, но ими не интересовался никто.
– Это мы счас, – ерничала с лежанки вечная вдова Маня. – Это мы в момент!
И тогда они спускались в подвал, в домоуправление, садились по глухоте своей в первый ряд и проходили заново курс политграмоты для дворников, лифтерш и водопроводчиков.