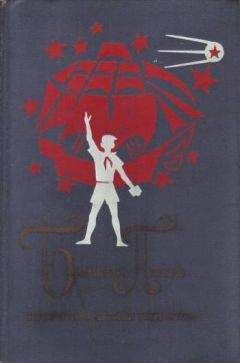Феликс Кандель - Слово за слово
Пузом по перилам просквозил донизу Соломон Розенгласс, несостоявшийся экспроприатор, по дуге вылетел на улицу.
– Антипка беспятый... – шелохнулась на этаже вечная вдова Маня. – Вот ужо запечатают тебя в тюрьму.
Маня числилась вдовой еще с наполеоновского нашествия, и лет ей было за сто, а то и под все двести.
Барабан зорю пробьет,
Унтер двери открывает,
Писарь с трубкою идет...
Муж у Мани был унтером.
Мане никто не верил в такое ее невозможное вдовство, хоть и была у нее справка на гербовой бумаге, с двуглавым орлом.
На всякий случай ей не платили пенсию...
Он поднимался по лестнице темного дома и дергал полегоньку двери квартир.
Квартиры были заперты. Звонки не работали. Почтовые ящики пустовали.
На верхней площадке он встал, продышался, послушал тишину.
Там распахнулось окно во всю стену, от пола и до потолка.
Там на побелке темнела дверь в неизведанные помещения, железная, непробойная, и он ощутил малое беспокойство, предвестник нового томления.
Вынул из сумки тряпицу. Расстелил. Бросил на нее подушечку. Переодел белую рубаху на темную. Вынул плечики. Повесил на них пиджак с брюками. Закрепил на чердачную дверь. Натянул на себя тренировочные штаны и лёг на пол.
Лицом к потолку. Руки за голову.
Было ему жестко. Но было ему покойно.
Кто знает, на какой срок?
Дом отплывал в сон, как корабль отплывает в изгнание.
Кто-то плакал на этажах.
Кто-то тяжко вздыхал.
Кого-то укачивали с приговорами.
Где-то тихонько играло радио и тыкали пальцем в фортепьяно.
Кошка мылась, мяучила, гостей намывала.
Вечная вдова Маня выговаривала на ночь Соломону Розенглассу.
Маня не любила Соломона, хоть и нянькала Розенглассов кучу несчитанных лет.
– В-первых – Саша, вторых – Маша, в-третьих – сын Ванюшечка...
А были они Лазуня, Соломон да Циля.
Соломон – досадник.
Циля – легкосердная.
Лазуня – горюнок ты мой.
Она всех пережила.
Вечная вдова Маня, женщина честная, что блюла себя второе столетие подряд и не уважала потому Груню-волокушу.
– Для начала выпьем, – начинал Потряскин из-за занавески, скидывая на ночь сапоги.
– Не надо пить, – наивно, под девочку, пела Труня. – Вы же знаете, что потом будет.
Груня уважала Потряскина за его бронетанковость и потому обращалась к нему на "вы".
– Выпьем, закусим, – настаивал Потряскин. – Патефончик послушаем.
– Не надо патефончика, – слабо возражала Груня. – Вы же знаете, к чему это приведет.
– Что такое? – сердился Потряскин и вылезал из-за занавески. – Пить не надо, патефончика не надо... Что же тогда надо?
– Ничего не надо, – пела Груня, пододвигаясь. – Вы же знаете, чем это кончится.
– А чем это кончится? – спрашивал Потряскин, вылезая из галифе.
Груня клохтала в кулачок откормленной курицей, жадно-жадно облизывала губы шустрым язычком:
– Сами знаете.
Тем оно и кончалось.
Старичок-заеда лежал на той же кровати, только на десять лет позднее, и подпрыгивал от нетерпения, дожидаясь нового рассвета.
Эта комната досталась ему по ордеру.
Эта кровать – бесплатно.
Он не спал никогда, этот старичок, ни днем, ни ночью, – может, в него не заложили соответствующую программу? – а вместо этого томился в постели, головой ерзал по наволочке: скорей бы уж утро, да скорей на работу, чтобы не простаивали без дела директивные его челюсти.
Его только что повысили за рвение, этого заеду, и он обезумел от новой должности.
Усталло Лев Борисович тоже не спал.
Он глядел в беленый потолок и прикидывал варианты.
В Москву собирались приехать американские конгрессмены, и он очень на них рассчитывал.
Начинались переговоры по разоружению, и на них он тоже рассчитывал.
Еще он рассчитывал на плохой урожай тут, на выборы президента там, на волнения в Африке, на перевороты в Азии, на расширяющиеся культурные обмены и на дочку свою Любочку, которая напишет из Израиля куда надо, и его тут же отпустят к внуку Димочке.
– Полежи со мной, – просил Димочка когда-то. – Полежи хоть на один миг, ну что тебе?
Усталло Лев Борисович ложился к нему под бочок, и мальчик начинал шептать на ухо, обдавая теплым молочным дыханием:
– Миг еще не прошел... Миг еще не прошел... Миг будет сто лет.
Шмыгал по подъезду довоенный парень-вострец, приглядывался к их замкам, которые предстояло открыть.
Он брал уже этот дом и не один раз.
Обчистил Розенгласса, обобрал Груню, проредил Усталло Льва Борисовича, а к Соне и Броне не пошел, хоть и запирались они – копейкой открыть можно.
Соня и Броня были ему профессионально неинтересны.
– Я человек легкий, – хвастался. – Я вам в любую ключевинку прольюсь...
Он не знал еще, парень-вострец, что это была его последняя ноченька, последнее развеселое гужеваньице, и что немцы уже загоняли снаряды в стволы, подвешивали бомбы под крыльями.
Начнется поутру жизнь войная, без конца-жалости, оттяпают ему ногу в медсанбате, и будет потом костылик, да протянутая кепка, да пропитой до хрипоты тенорок с переплясом:
– Что ж ты, мила, не встречаешь? Али дома тебя нет?..
Шатун-Абарбарчук утихал на затертом полу.
Оплывал мыслями, памятью, чувствами.
Заваливался в немоту, в слепоту, в полное утешение плоти.
И опустились к нему папа с мамой – на лестничную площадку, как сына навестили в детском саду: с едой и с подарками.
Он даже запах ощутил знакомый, из маминого кулечка: это был кугель, с гусиными шкварками кугель, который подавали на стол в субботу.
Запах уносило кверху, без возврата, и он тоже вознесся следом, чтобы унюхать, тело свое оставив под залог...
К маме Абарбарчук пришли сваты, дали ей запутанный моток шерстяных ниток для проверки характера.
Мама Абарбарчук тогда еще не была мамой и очень потому постаралась. Она просидела, не разгибаясь, полдня и распутала весь моток, не порвала ни разу.
– Хороший характер, – сказали сваты. – Это нам годится.
Повели ее под хупу.
Под хулой уже ожидал папа Абарбарчук.
Папа был молод тогда, очень молод, он не знал еще, чего делать со своей женой, и к нему был приставлен особый старичок, чтобы обучить этому несложному искусству.
Но зато у него был нос.
Самый большой нос во всем местечке.
Этот нос перешел потом к его сыну, а от сына к внуку.
Не иначе, какой-то шаловливый ген прыгал у них в семье с носа на нос, никак не желал отвязаться.
Ген-антисемит.
Папа Абарбарчук оказался непоседой.
Папа пешком ходил в Могилев-Подольский, Бельцы, Атаки и Флорешти, даже если дохода было на пятачок.
Перед японской войной папа уехал в Америку.
Он там работал, он много работал и накопил деньги на шифс-карту – жене и сыну.
Вернулся в костюме, в котелке, с чемоданом и тросточкой: забрать своих.
– Ах! – сказала мама Абарбарчук. – Это же английский лорд, люди! Где ты достал все это, Мойшеле?
– Где достал? – сказал папа. – Я работал, Рейзеле. Я много работал. Я работал семь дней в неделю и всё это заработал.
– Что?! – сказала мама. – Чтобы я поехала в эту гойскую Америку, где работают по субботам? Так нет же!
И они остались в местечке.
А в сорок первом году пришли немцы, столкнули в ров стариков со старухами, сверху присыпали песком.
И папу с мамой столкнули тоже.
4
Вечная вдова Маня рано ложилась спать, насмотревшись по телевизору всякой всякоты.
Особенно она любила бокс.
Бои тяжелого веса.
Даже подскакивала на стуле при хорошем ударе.
– Старушка ты кровожадная, – выговаривал ей Лазуня. – Постыдилась бы напоследок.
– Посмейся, посмейся, – бурчала она с лежанки. – Вот ужо скажу зятю: он те наволдыряет...
Зятя у Мани давно не было.
Зятя убили в севастопольскую еще кампанию, ядром по башке.
Но Маня оговаривалась постоянно.
Они жили вдвоем, в одной комнате, после уплотнения: Лазуня-холостяк да Маня-вдова.
Вся комната была заставлена горшками, в которых рос Ванька-мокрый, любимый ее цветок.
Надумал жениться:
– Обойдешься.
Уперся – она в паралич слегла.
Передумал – спрыгнула с лежанки, будто новенькая, наварила ему пшенной каши.
А не балуй в другой раз.
Кроме бокса, она любила еще и пожарных.
Аж холодела при виде!
Укатывалась на дальнюю улицу, звонила из автомата, содрогалась от нетерпения на тонких ножках.
– Приезжайтя! Полымем полыхает.
А там уж глядела во все глаза, как катят они с шумом и грохотом, красные, сверкающие, брезентово-несминаемые, и в дуделку на ходу дудят.
Вот он подумал однажды: расстреливают, дают последнее слово, самое последнее! – а сказать-то нечего. Нечего выкрикнуть горлом, выхаркнуть кровью, легкие вывернуть наизнанку, чтобы вздрогнули на прощание, обернулись, запомнили хоть на миг.