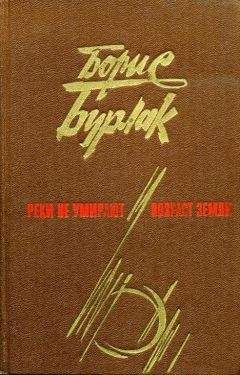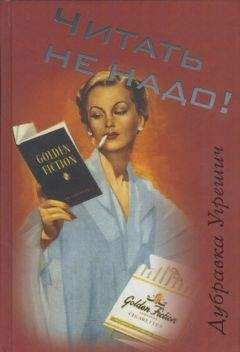Дубравка Угрешич - Форсирование романа-реки
Вандина страсть имела как свои положительные стороны, ибо ее жар иногда грел и самого Министра («Ты с ним знаком, котик?! Но ты мне никогда не говорил! Лично?!»), так и отрицательные. Например, в тех случаях, если известные личности были отечественными политиками, единственным доступным общественности фактом их частной жизни была их смерть. А это, однозначно и неконтролируемо, вызывало у Ванды только одну реакцию – эротическое возбуждение.
Стоило на первых страницах газет появиться большим черным буквам (даже сообщения о подорожании электричества, опубликованные рядом с известием о смерти видного деятеля, не казались такими неприятными и выглядели просто траурными), Ванда начинала возбуждаться и Министру следовало привести себя в полную боеготовность. Если, например, Министр оказывался у нее вечером, во время телевизионной программы новостей, в момент сообщения о кончине известного деятеля, Ванда впадала в состояние величественного эротического аффекта. Вначале Министра несколько пугала такая необычная реакция («Боже, что бы на это сказали люди?! Разразился бы настоящий скандал с огромными политическими последствиями!»), она была ему даже неприятна, хотя при этом одновременно тайно импонировала («А я вот, видите, еще жив! Да еще как!»). Позже он привык к Вандиным панихидно-эротическим шоу и даже получал от них удовольствие. Правда, в отличие от Ванды, он все же стремился придать акции определенное достоинство и совершал все тихо, даже почтительно, если можно так сказать. Ведь, в конце концов, зачастую речь шла о его коллегах. И кстати говоря, все чаще и чаще. Хотя иерархия ценностей была теперь совершенно нарушена. Откинет коньки какая-нибудь шушера и сразу попадает на телеэкран – и где родился, и чем занимался, все по порядку.
Позже, когда волна эротического возбуждения проходила, а на экране появлялся прогноз погоды, Ванду охватывал судорожный плач и она, рыдая и всхлипывая, почему-то натягивала на себя гораздо больше одежды, чем имела на старте. И потом, одетая, как солдат в полной походной форме, она озабоченно заявляла:
– Не знаю, котик, что это со мной творится, что за чертовщина… Хоть убей, не понимаю…
И Министр утешал ее и любил еще сильнее, такую заплаканную, помогая ей снять лишнюю одежду, которую она натягивала на себя в фазе возбуждения. В процессе раздевания чувство вины у Ванды постепенно переходило в обеспокоенность:
– Несчастная наша страна! Ты посмотри, котик, сколько людей умирает! Поневоле задумаешься, кто же у нас останется в конце концов?!
Благодаря такому странному ритуалу Ванда сохраняла свое психологическое равновесие – одеваясь, она прикрывала в себе сексуальную сущность, а раздеваясь, раскрывала общественную!
В конце концов, думал иногда Министр, анализируя причины странной склонности Ванды, у нее просто в гораздо более широком спектре, чем обычно, проявляется близость эроса и танатоса. Ванда – это гуманное существо, готовое к сочувствию и жертвенности. Когда умирали известные люди, Вандина благородная природа демонстрировала отождествление единственным доступным ей путем (за исключением самоубийства!), то есть через сладостный катарсис так называемой малой смерти.
Вандина рука зашевелилась. Министр затаился, он уже предчувствовал, в каком направлении развиваются желания Ванды. И он не ошибся. Ванда не выдержала.
– Котик, может быть один разик по-министерски, за Хосе?…
Она сказала это так хорошо, с такой грустью, с такой сдержанной страстью, что Министр не мог не покориться, хотя терпеть не мог поэтов. И он не заметил, что Ванда, сдерживая страсть, оговорилась. Вместо «по-миссионерски», она сказала «по-министерски», что, конечно, по своей сути было правильнее.
2
Утреннее заседание проходило в соответствии с программой. Атмосфера была несколько сонной, состав участников поредел. Сначала заслушали первый доклад Сильвио Бенусси о современной итальянской поэзии. Сейчас на трибуне стоял Йосип Грах и монотонно читал свое сообщение о значении диалектов в современной поэзии вообще и о роли чакавского диалекта в частности. Примеров было так много, что иностранцы то и дело слышали в своих наушниках неприятную тишину. Некоторые из них, наиболее амбициозные, вроде Бенусси, постоянно переключали каналы, думая, что что-то не в порядке. Светловолосая датчанка Сесилия Стеренсен упорно крутила рукой прядь волос, время от времени принимаясь нервозно грызть ее. Ирландец Томас Килли одной рукой обнял спинку стоявшего перед ним стула, в другой руке он держал карандаш, с его помощью он поминутно то спускал, то поднимал на нос очки, будто посылая кому-то тайные сигналы. Виктор Сапожников, уверенный, что с наушниками на голове его никто не видит, немного вздремнул… Лишь в первом ряду один неиндентифицированный седоволосый субъект что-то прилежно записывал.
Прша сидел за столом рабочего президиума между председательствующим, прозаиком Мразом, и пожилой полячкой, критиком Малгожатой Ушко.
Йосип Грах закончил свой доклад, но никто этого не заметил, потому что, не дожидаясь, пока он выберется из-за трибуны, к ней быстрыми шагами, заметно взволнованный, приблизился чешский писатель Ян Здржазил. Прша поднял руку и открыл рот, чтобы указать гостю, что сейчас, к сожалению, не его очередь, но рука его застыла в воздухе, а рот остался открытым, потому что чех схватил микрофон и отчаянно заголосил:
– Soudruzi! Panove! Spisovatele!..
Литераторы встрепенулись и с интересом посмотрели на худого, бледнолицего человека на трибуне, хватавшего ртом воздух:
– Lidé! Ukradli mi román! Dílo, moje životnf dilo… mi sobralj… – В наушниках заклокотало. – Genossen! Kollegen! Mitmenschen! Man hat mir meinen Roman gestohlen! Mein Meisterwerk! My novel's been stolen! My masterpiece… On m'a volй mon livre! Mon chef-d'oeuvre… Ljudi! Mne ukrali roman! Moj shedevr!
В первый момент в зале повисла мертвая тишина, затем вскипел шум. Сбросив с головы наушники, Прша быстро встал из-за стола, подошел к трибуне, что-то шепнул несчастному чеху на ухо, затем рукой осторожно отвел в сторону микрофон, как будто это была бомба, которую нужно обезвредить, подхватил чеха под руку. Чех в этот момент бросил в зал умоляющий взгляд, а потом, пригнув голову, покорно оперся о сильную руку Прши. Уводя чеха, Прша повернулся лицом к залу и богатой организаторско-официантской мимикой постарался просигнализировать публике, что все в порядке, что он все уладит, не надо беспокоиться, спокойно продолжайте работать. Сигналы Прши были приняты и правильно поняты председательствующим, который, заглянув в лежавшую перед ним программу, объявил следующего выступающего. Бомба была обезврежена.
Литературному критику Ивану Люштине, который намеревался в своем докладе с помощью тяжелой артиллерии расправиться с отечественной прозой, поэзией и драмой, было нелегко, когда он под градом комментариев направлялся к трибуне:
– Он сумасшедший!
– Может быть, и правда!
– Сразу видно, параноик!
– К тому же еще и шедевр! Смотри-ка!
– Знаете, я думаю, надо сделать перерыв.
– Да он чушь несет! Просто сдали нервы!
– Не думаю… Не знаю почему, но чехам я верю.
– В наше время люди действительно ничем не брезгуют…
Все это относилось к Яну Здржазилу, которого Прша тем временем вел к выходу, сохраняя на лице официантскую маску.
Лишь два лица во всем зале выражали молчаливую озабоченность. Одно принадлежало американцу Марку Стенхейму, второе – журналистке Эне Звонко. А когда с трибуны раздался голос Ивана Люштины, из публики почему-то встали две женщины и демонстративно покинули зал. За ними последовала датчанка Сесилия Стеренсен.
3
У Пипо были проблемы со временем. С тем самым общим временем, с теми большими часами, по которым люди сверяют свою жизнь. Словно он как-то раз споткнулся или зазевался и сбился с шага. Или, например, забыл себя завести и не сразу это заметил. Такие вещи не всегда бросаются в глаза. Но он вдруг оказался в одиночестве и понял, что его знакомые живут в другой жизни, что между ними появился какой-то невидимый барьер. Все они устроились на работу, переженились, народили детей и разработали систему жизни, похожую на какую-то механическую общественную игру. У них были свои места встреч, свои врачи, свои парикмахеры и портные, свои регулярные партии в теннис и вечеринки, свои week-end'bi и ежегодные отпуска, свои кредиты и квартиры, свои любовницы, треугольники, разрывы и примирения. Все были знакомы и узнавали друг друга в этой общественной игре. Только у Пипо не было ничего. Он не знал, как это получилось и почему. Он зазевался, он что-то пропустил. И теперь мог только наблюдать за всем этим moving, постоянно получающим ускорение. Иногда они казались ему флиппер-шариками, которые, начав движение все вместе, двигались теперь каждый по своей траектории. А Пипо оставался большим ленивым шариком и, покоясь в лунке, ждал, когда кто-нибудь энергично ударит по нему и отправит в головокружительное путешествие. Иногда в этой лунке он чувствовал себя совершенно забытым и мог только с завистью прислушиваться к шуму всего того, что происходило вокруг. С годами пропасть углублялась. Когда он заходил к ним, они радовались: «Вот и наш Пипп».