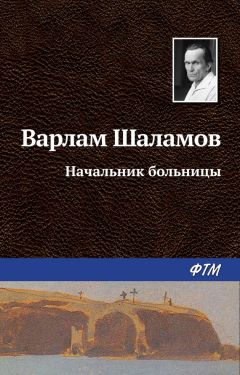Владимир Курносенко - Милый дедушка
— Вы боялись, — спросил я, — что я не верну вам вашу книгу?
Она фыркнула и пожала плечами. Что отвечать? Не доверяться же ей человеку, которого она знает три недели! Дочь выдать за него замуж куда ни шло, ну да не дорогую же книжку…
Я положил справочник на полочку для обуви и вышел.
Как-то все становилось яснее.
Знаешь, Света, думал я, отчего человек толстеет? Я шел по опадающему скверу и пинал листья. Никакой Светы рядом со мной не было, но мне казалось, вдруг она меня догонит. Много, скажешь, ест? Нет! Потому что ест больше, чем надо, чтобы жить. Ест, и у него копится жир. И жир тоже просит. И тогда человек ест еще и еще. Пока не лопнет.
В лотке, по дороге домой, я купил шесть бутылок чехословацкого пива. Пошлю Саше, Алику, Юрке, Сереже и Бавильскому, решил я. Всем по бутылке, а одну себе. Они выпьют их на лавочке в нашем Детском парке возле школы, и Бавильский, быть может, запоет «Своею белою рукой…». И вспомянут меня, и скажут: д-да-а… Бутылки были маленькие, крепкие, в посылке они не разобьются.
У калитки на лавочке сидел последний квартирант Николай. Днем он лечился в институте Филатова, а ночью, когда кончался по телевизору футбол, ему ставили в гостиной раскладушку, поскольку в сарайчиках было уже холодно. Я предложил Николаю пива, но он отказался. Если выпьет, лечение пойдет насмарку, и тогда через несколько лет он ослепнет.
Потом он рассказал мне о девушке, ждавшей его где-то чуть ли не на Курилах, и вздохнул. Сидеть с Николаем было лучше, чем снова остаться одному. Нос у него был широкий, из тех, что можно заглянуть прямо в ноздри.
— Хочешь, я спою? — спросил он.
— Хочу, — сказал я и открыл бутылку, а он запел.
Я выпил все шесть бутылок, по очереди занимая их у своих друзей. А Николай ушел.
Где старая лодка на ржавой цепи, там есть ресторанчик, пустой из-за цен… Там стены все покрыты древесиной, а меж столов там ходят две собаки, две черные спокойные собаки.
И когда открывают там дверь, то слышно — чавкают волны…
Впрочем, я заказал бутылку шипучего и два бутерброда с черной икрой.
— Разрешите прикурить? — спросила девушка из компании, отдыхавшей за соседним столиком, единственной здесь компании, кроме меня. — Разрешите?
И отвела льняные волосы, чтобы они не загорелись от моей спички. А на стуле висела ее шляпа, трогая лентами пол. Ах, какая, в самом деле, шляпа!
Я подозвал собаку и стал скармливать ей бутерброд. Собака была сытой и ела только икру. Официантка ее прогнала.
Потом я ходил вдоль моря.
Утром пришлось идти за плащом.
— И что будет? — спросила официантка.
— Рубчик! — без запинки сказал я.
И в открытом кафе близ Дерибасовской я снова взял бутылку шипучего. Оно не было кислым, и холерному вибриону оставался в нем какой-то шанс.
Часы на башне пробили мелодию: «Когда я пою о широком просторе, о людях, умеющих верить и ждать…» Паузы были длиннее, чем в знаменитой оперетте, где поют эту песню, но так тоже было хорошо. Я вспомнил про маленького капитана, и мне стало легче.
Через столик сидел старик в сером пиджаке. Перед ним стояло полстакана темного вина. Я кивнул ему, он встрепенулся и перешел ко мне.
Его звали Жора. Я сказал: счастье — это внутри, а не снаружи. Он подумал и согласился. И мы взяли еще.
Не может ли он показать мне Молдаванку, спросил я.
Может, сказал Жора.
Мы пришли на Молдаванку, в бодегу, и заняли угловой столик. Сбылась мечта идиота, подумал я известными словами известных писателей.
Жора ушел за вином, а ко мне привязался парень, жлоб, как сказал бы Димка. Возвратившийся Жора пытался его оттереть, но парень упорно тянул и тянул меня «выйти». «Ну чё ты, ну чё ты?» — говорил он как в детстве. Ему не нравилось мое лицо. И тогда Жора показал мне подбородком на мужчину, что сидел вдалеке у самой стойки. Полный брюнет лет сорока пяти. Черный костюм и узкий галстук. Мы встретились глазами, и я понял: это и есть Король.
Никто больше ко мне не приставал.
Я подошел.
— Ты откуда? — спросил Король.
Оттуда! Я сказал.
Нам налили стаканы, и Король пальцем подтолкнул один из них мне. Глаза его смотрели в упор. Сталь, подумалось мне, в которую не влезешь босиком.
И я представил себе, как мы разговариваем.
Мне надо спросить, а он вот мне отвечает. Ведь он Король, на то и Король, чтоб знать.
Но я не спросил.
Я смотрел в роскошные сильные королевские глаза, и чего-то мне в них недоставало. Наверное, он знал примерно то же, что и Эрик, и Кира, и такая мудрая Таисия Аполлоновна, только, может быть, больше, гуще и еще лучше их всех. Ведь он был Король. «Что важнее, конечно, важнее любви…»
Жора тянул меня за рукав. Он чувствовал свою ответственность за меня. Я положил на стойку три рубля и поблагодарил Короля за компанию. Не глядя на деньги, он щекой подозвал молодого человека в белой водолазке и спросил, где я живу.
Институт Филатова я живу, объяснил я, институт Филатова, где лечится Николай, мой друг Николай, который теперь скоро ослепнет. Не хотите ли рубчик?
Король не обиделся. Он просто кивнул на прощание и отвернулся. Водолазка ласково повела меня к выходу.
Утром на руке у меня не оказалось часов, а в кармане денег.
Ко всему, на кухне, проходя вчера мимо, я выбил стекло, видимо протестуя против чего-то.
Тетя Зоя хмуро, но твердо отказалась от денежной компенсации за него, чем окончательно меня добила.
Вскоре приехала мама в тяжелой шубе (у нас на Урале была уже зима) и увезла меня домой.
Димка провожал нас до автобуса.
С годами я все реже вспоминаю те дни, мне уже не так стыдно за тогдашнюю прыть. Но вспоминая, я все еще хочу понять: неужто правда меня обокрали по приказу Короля? Иной раз я верю в это, а иной нет.
И еще. Через несколько лет после той моей жизни я случайно узнал, что капитан, муж Кириной сестры, — помните, он еще пел морскую песню из кинофильма «ЧП»? — что в одном из дальних рейсов он погиб в открытом море.
МОЙ ДЯДЯ, ДЯДЯ ЛЕНЯ
Когда в коридоре раскатывался его баритон, со мной творилось счастье. Я задерживался еще в комнате, как бы доделывая то, что делал, а потом потихоньку приближался к кухне, куда он обычно сразу же проходил, чтобы можно было курить, и слушал оттуда и взрывающийся смех, и полупонятное «Кочумай! Кач, кач…», и песни потом, когда с отцом они выпьют и запоют. И смех, и анекдоты, и запах одеколона «Шипр», и папиросы «Казбек» с темным джигитом по голубому фону, по которому дядя Леня еще постукивал папиросой, прежде чем закурить. Собственно, настоящее имя у него было Алексей, в честь нашего деда Алексея Иваныча, потому что он, дядя Леня, был в папиной большой семье младшим. Всем, и бабушке, и сестрам отца, и братьям, всем нравилось, что его зовут Алексей в честь Алексея Иваныча, а он вот стеснялся почему-то, и когда учился после войны в культпросветучилище, стал вдруг Леонидом, так, видать, ему казалось красивее. А дело, впрочем, кончилось тем, что и чужие и свои стали звать его Ленчиком. В сорок пятом его призвали в армию, и он отслужил свой срок на военном где-то заводе, а может, немножко и повоевал, я никогда о том его не спрашивал. Но документ участника Отечественной войны, сказала мама, у дяди Лени есть. На фотографиях той поры он похож на семнадцатилетнего Есенина — тот же невинный ждущий телячий взгляд, беспомощность и стопроцентная, абсолютная, безоговорочная красота. Это уж после, когда я живым запоминал его, он носил назад длинные, распадающиеся по бокам волосы, яркий шарф, перчатки и прочее все. Не говорю уж, необходимого фасона ремешки для часов, не говорю, галстук и шляпу. Шляпы, кстати, очень ему шли. Только годам к пятидесяти под его тонким кожаным ремнем появилось маленькое пологое брюшко… Да, разумеется, он был худощав, жилист; разумеется, то и дело смеялся, обнажая красивые, маленько обкуренные зубы. Он был красавец мужчина. Был и хотел им быть.
Вот, закрываю глаза: танцплощадка, по краям ее ползают отдыхающие обоих полов, и к ним с наклоненной к земле головой идет он, дядя Леня, медленно и изящно разводя в стороны руки. И вдруг голова его вскидывается, руки отбрасывают назад прекрасные его русые волосы, и он сильно бьет в ладоши: «Мужчины берут в руки стулья, женщины выходят на середину!..» И медленно-медленно потом он сводит руки к себе просто и повелительно, как хозяин, как мастер внутри своего дела, и женщины, загипнотизированные, идут, идут на середину, а мужчины покорно берут стулья. И мне кажется, начиная, он еще и не знает, что скажет дальше. Зато, знаю, — будет хорошо.
Он в самом деле был мастером своего дела.
На конкурсе культорганизаторов (так он сам называл это дело), в общем, на конкурсе массовиков-затейников, дядя Леня как-то занял в Москве почетное место, на чуть ли не предпоследнем даже туре. Он сам показывал нам медаль. Во всяком случае, в нашей большущей области второго такого массовика не было и не могло быть, это знали все. И сам дядя Леня тоже знал.