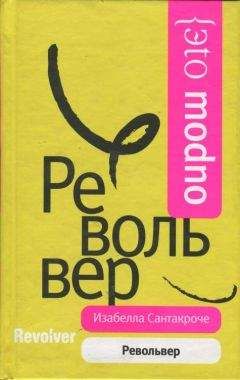Владимир Краковский - Один над нами рок
Эта реплика вызвала у нас замешательство, так как являлась чистой отсебятиной. Про исход из Египта, тем более евреев,
Пущину не поручалось. Мы потом его спрашивали: ты чего? Он разводил руками, клялся, что Египет у него слетел нечаянно, ни с того ни с сего. “Я безмозглый болтун и психоневрастеник!” – каялся он.
Впрочем, больших отклонений от задуманного отсебятина не вызвала. Правда, сначала удивленный Дельвиг тоже отклонился от роли, спросив: “Разве Дантес – еврей?” “Не. Их род, ты же знаешь, французский”,- в последний раз отклонился Пущин, а может, и дальше отклонялся бы, если б снова не включился, к нашей радости, Пушкин. “И как развивался разговор дальше? – спросил он с интересом.- Что ответила Наташка?”
“Сказала, что вечером у нее стирка,- ответил Пущин.- Исподнее, говорит, загрязнилось…”
Итог разговору подвел главный его зачинщик и дирижер – Вяземский.
“Итак, мотив ясен,- сказал он.- Но Сашок предпочитает скрытничать, поэтому мы сами пойдем сейчас к главврачу и объявим: Пушкин стрелял в Дантеса из ревности… Фу, прямо гора с плеч… Айда, ребята!”
“Стойте! – закричал Пушкин.- Не путайте в это дело Наташку! Я вам сейчас все объясню! Мотив совсем другой!”
Его как прорвало. Целый час мы слушали взволнованную исповедь отчаявшегося человека.
Начал он издалека. Он так и сказал: “Чтоб вы все поняли, я начну издалека”. Всю свою жизнь, сказал он, с младых ногтей, буквально с пеленок, и в школе, и дома он воспитывался в духе интернационализма. Интернационализм он впитывал с молоком матери, атмосферой интернационализма дышал. Ему всегда было все равно, кто перед ним – еврей, татарин или печенег. Встретив однажды на улице негра, он пожал ему руку и сказал, что хочет с ним выпить. “О’кей!” – ответил негр и вынул из кейса поллитровку. Они распили ее в ближайшем подъезде и на прощание крепко расцеловались. Когда возник спор – кто изобрел радио:
Маркони или Попов, он воскликнул: “Какая разница? Оба хороши!” – и послал телеграмму итальянскому правительству с просьбой передать наилучшие пожелания детям и внукам Маркони… Но, к стыду своему, он никогда не называл закон сохранения вещества законом Ломоносова – Лавуазье и трижды звонил во Французскую академию с требованием отказаться от своей половины приоритета…
“Не люблю французов,- покрываясь краской стыда, сказал он. Позор на мою голову, грош цена моему интернационализму! Сам не знаю, откуда у меня это. Ведь любовь ко всем на свете нациям – это то, чем я пропитан насквозь. А вот с французами почему-то интернационализм не получается. Я всегда ощущал этот психологический факт как огромный изъян в своей нравственности и со жгучим чувством стыда как мог его скрывал. Я бы скрывал и дальше, но ваше дурацкое предположение о флирте Дантеса с
Наташкой может бросить тень на ее целомудрие, и это вынуждает меня к признанию…”
Он рассказал нам, что, когда Дантес только пришел в цех и, знакомясь, произнес свою фамилию, в сердце будто током ударило.
Сначала Сашок воспринял этот факт как явление легкой сердечной недостаточности: в то время как раз подходил конец последней пятилетки и работать приходилось по две, а то и по две с половиной смены, чтоб выполнить ее на четыре дня раньше срока.
Сашок тогда подумал: “Что-то рановато у меня сердце барахлить начинает”,- но трудовых темпов не снизил – честь цеха для него всегда была выше всего личного…
Но пятилетка кончилась, новая же – в связи с развалом страны – так и не началась, объем работы резко уменьшился, перекуры стали основным времяпрепровождением, а резкие толчки в сердце при слове “Дантес” продолжались. Мало того, при виде самого Дантеса стали сжиматься кулаки. Пушкин понял, что его ненавидит…
“Мне бы эту ненависть не сдерживать,- жаловался он нам на себя. Она ж прибывала понемногу. Надо было каждый раз, когда сталкивался с ним, материть его или толкать плечом со словами:
“Прочь с дороги, лягушатник!” Если б я так поступал, ненависть не копилась бы и опасной концентрации в моей душе не достигла б.
Но, скрывая свои антифранцузские настроения, я не мог позволить себе таких выходок. Кроме того, как всякий представитель русского народа, я долготерпелив, и это сказалось. В один прекрасный день я обнаружил, что вытачиваю самопал. “Зачем он мне?” – мелькнула мысль. Но не было уже у меня власти над собой.
Единственное, на что еще хватило моего интернационализма,- не вложить в ствол пулю…”
Выслушав эту исповедь, мы стали успокаивать Сашка, но он отталкивал нас, говоря, что отныне не сможет никому смотреть прямо в глаза. Он очень страдал – как всякий интернационалист, вдруг обнаруживший, что какую-то нацию он на дух не переносит…
Мы, что называется, удалились на совещание. Было ясно: идти с таким мотивом к главврачу нельзя. Не любил бы Сашок всех инородцев – это было б, может, и плохо, но нормально. Не любил бы он только евреев – совсем хорошо, поскольку очень традиционно. Или, скажем, немцев – за то, что они евреев убивали… Но ненавидеть выборочно одних французов, любя всех остальных,- для России это явная ненормальность, идти к главврачу с таким объяснением можно было только с желанием навредить. Сашку после этого век бы свободы не видать. Ему бы до конца жизни кололи в черепушку настои разных трав…
Накануне главврач рассказывал, как открыл очередное лекарство.
Совершенно случайно! Услышал по радио песню “Сережка ольховая будто пухо вая” – и его прямо вскинуло. Пошел, насобирал этих сережек, отварил, вколол одному-другому пациенту в гипоталамус – и пожалуйста: один почти выздоровел, другому тоже лучше стало.
“Большинство великих открытий делается случайно”,- объяснил нам главврач.
Вернувшись в цех, мы рассказали Дантесу всю правду. Вяземский обнял его, говоря: “Ничего не поделаешь, придется тебе взять грех на себя”. Дантес не понял, спросил: “Какой грех?” “Грех лжи”,- ответил Вяземский и объяснил новый план. Он состоял в том, чтоб Дантес наврал главврачу, будто, являясь в целом тоже интернационалистом, к сожалению, терпеть не может русскую нацию и неоднократно говорил Пушкину: “Ах ты, русская морда!” И еще якобы говорил: “То ли дело мы, французы! И лекарство от бешенства наш Пастер изобрел, и наша солдатня в грязных сапогах по вашим кремлевским дворцам расхаживала и на постелях ваших царевен спала…”
“Зачем мне приписывать себе такие слова? – воскликнул изумленный
Дантес.- Какая польза может быть от этой глупости?”
“А такая,- ответил умница Вяземский,- что в результате твоей хулы на русских, в результате попирания всего того, что так дорого русскому сердцу, Пушкин разозлился настолько, что, слегка изменив своему интернационализму, возненавидел французов. А поскольку все гадости говорил один из потомков этого глумливого племени, то он не сумел удержаться и открыл по нему пальбу.
Таким образом, ненависть Пушкина к французам не будет уже выглядеть ненормальностью. Пушкину на суде объяснят, что из-за одного сволочного француза нельзя ненавидеть всю ихнюю нацию, тем более что этот сволочной, если разобраться, вовсе и не француз, а всего лишь отдаленный французский потомок…”
“Да не французский я потомок! – в который раз возразил Дантес. Я потомок итальянский”.
Мы, как всегда, замахали руками: не вешай, мол, нам лапшу на уши, кого ты пытаешься обмануть, не на тех напал, Дантес – типичная французская фамилия, так что отвертеться и не пытайся.
Однако умница Вяземский, всех заставив умолкнуть, сказал: “Этот
Гей-Люссак уже не впервой долдонит нам что-то про итальяшек.
Поскольку дело мы затеяли серьезное, давайте хоть раз выслушаем его до конца. Очень интересно, как он будет уклоняться от французского происхождения. Может, из его лживого рассказа мы извлечем какую-нибудь пользу. Давай, Робеспьер, рассказывай!”
Дантес замялся и сказал: “Моя история не слишком короткая.
Впрочем, если вы изъявляете желание ее выслушать, извольте”.
“Изъявляем, изъявляем!” – сказали мы и расположились поудобнее.
Стульев не хватило, кое-кто взгромоздился на подоконник, а некоторые сели на пол, даже на нем улеглись.
И Дантес начал свой рассказ.
Предок его прибыл в Россию, когда ею начинал править Петр и в недавно прорубленное им окно в Европу еще только вставляли раму.
Предок тоскливо бродил вдоль будущих “питербурхских прошпектов” по колено в строительном мусоре и бессчетно спрашивал себя:
“Зачем я сюда приехал?” И ответить на вопрос не мог.
Новая столица тем временем строилась. Князья и бояре возводили дворцы и обставляли их мебелью. Деньги у них были, а вкуса – нет. Купив сегодня дюжину кресел на гнутых ножках, они назавтра присовокупляли к ним шесть двуспальных кроватей с ножками прямыми. Уместно ли соседство столь разных по духу предметов – такой проблемы они не знали. Умея уже ценить красоту отдельной вещи, они не угадывали красоты сочетания. В результате шкафы ампир перемежались столами рококо, рядом с позолоченной лежанкой в стиле Карла Великого громоздились розовые балахоны а-ля