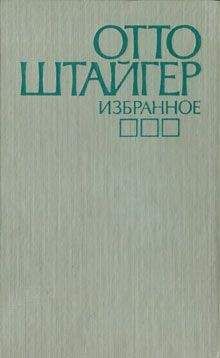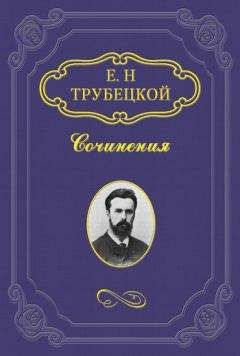Митчел Уилсон - Встреча на далеком меридиане
За пределами земной атмосферы в вечном мраке бесконечного пространства невидимые газовые облака длиною в миллиарды миль бесшумно проносятся одно мимо другого или одно сквозь другое почти со скоростью света. Эти облака наэлектризованных частиц настолько огромны, что звезды рядом с ними всего лишь раскаленные комочки, но при этом они настолько разрежены, что их можно считать материей лишь по сравнению с черным ничто, сквозь которое они просачиваются с невообразимой скоростью. Они вечно движутся в пределах галактики, изгибаясь и закручиваясь в спирали, непрерывно меняя форму и плотность, так как более быстрые частицы внутри облака догоняют более медленные. Они невидимы человеку при дневном свете, скрыты мраком земной ночи, само их существование можно только предположить, законы, которым они подчиняются, можно вывести только в приближенной форме, опираясь на максимальную скорость наиболее быстрых частиц.
Математические выкладки Ника, казалось, не стоили ему никакого труда, и Гончаров перебил его лишь несколько раз, когда решил, что Ник исходит из неточных предпосылок. Работая, Гончаров становился необыкновенно въедливым и был почти невыносимо упрям, пока не чувствовал себя убежденным, но зато умел мгновенно уступать, едва ход рассуждений становился ему понятным. Когда он увлекался, то начинал говорить очень быстро и настойчиво, словно специально обучался искусству прямого и безжалостного спора. В первый момент казалось, что у него негибкий, дидактический ум, но это была лишь манера держаться, и в конце концов он совсем перестал перебивать Ника, который говорил с необыкновенным жаром — ведь он объяснял свою теорию человеку, для которого она имела самое большое значение и который лучше кого бы то ни было мог оценить ход его мысли; поэтому он весь был полон горячего возбуждения, которого ему так не хватало, когда он впервые проводил свой эксперимент. Захваченный этим ощущением, он был готов закрыть глаза и вознести благодарственную молитву, как человек, начинающий выздоравливать от паралича.
Гончаров был слишком поглощен формулами, чтобы обращать внимание на что-нибудь, кроме доски; он сидел молча, постукивая по зубам ногтем большого пальца.
— Замечательно, — сказал он наконец, словно констатируя факт. — Как интересно, что совершенно различными логическими путями мы пришли к одинаковым выводам. Что же это означает? Ваша теория гораздо более проста по сравнению с моей. Более проста и более интуитивна. Но моя мне кажется более строгой. А теперь покажите мне, как вы воплотили все это в приборе.
Однако, прежде чем они успели уйти в лабораторию, вошла Мэрион и сказала, что в большом обеденном зале их обоих ждут к завтраку остальные советские гости, директор и сотрудники института. Она сообщила об этом как идеальная секретарша: вежливо, официально и безлично. Но для Ника ее теперь озарял мягкий отблеск незабываемой близости. Под глазами у нее легли голубые тени бессонницы, а слегка осунувшееся лицо казалось особенно нежным. Он пытался угадать, что случилось после того, как они расстались, но, когда ему наконец удалось спросить ее об этом, она ответила только:
— Ничего, что касалось бы вас. Ничего не случилось.
В тот день они с Гончаровым так и не попали в лабораторию, потому что этим завтраком началась официальная программа: коллективный осмотр циклотрона и лабораторий других отделов института, экскурсии по городу, приемы с коктейлями и наконец концерт, на который, к удивлению Ника, Мэрион достала лишний билет, чтобы, как она сказала, пойти туда с ним.
— А можно? — спросил он. После той первой ночи им еще ни разу не удавалось остаться наедине. — Не будет это неудобно?
— Мне так хочется, вот и все, — ответила она твердо.
В своем темном вечернем платье она выглядела безмятежно спокойной и весь вечер оставалась рядом с ним, не проявляя ни малейших признаков смущения. Никто, очевидно, не сомневался, что она присутствует здесь по долгу службы, — никто, кроме Хэншела: в антракте, остановившись выкурить с ними сигарету, он поглядывал на них с легкой усмешкой. Почти все время он смотрел на Мэрион — смотрел со скрытым восхищением и тоскливой завистью человека, который слишком долго жил с нелюбимой женой, сохраняя мертвую оболочку супружеской верности только из страха, только потому, что у него не хватало мужества ни порвать с той, которую он возненавидел, ни найти ту, которую он мог бы полюбить. Будь у него не такая лощеная внешность, можно было бы сказать, что его жаркий жаждущий взгляд полон отчаяния. Но он был для этого слишком умен и корректен, и лишь его манера держаться казалась немножко чересчур отеческой, немножко чересчур иронической и снисходительной. Там, где другие видели в Нике и Мэрион только известного ученого и его секретаршу, взгляд Хэншела проникал в самую суть с проницательностью, порожденной страданием. Он ни словом не выдал своих мыслей, но эта его проницательность заставила Ника встревожиться за Мэрион. Он не знал, заметила ли Мэрион что-нибудь, но, когда они вернулись в зал, она прошептала, притворяясь, что смотрит в программу:
— Он знает о нас, правда?
Она скрывала свое беспокойство под внешней невозмутимостью.
— По-моему, он догадывается, — ответил Ник тихо.
— И что он сделает?
— Ничего. — Он смотрел, как она небрежно перевернула страничку, на которую были устремлены ее невидящие глаза.
— Ты боишься?
— Нет, — ответила она. — Мне это безразлично, но только он мне не нравится. И не внушает доверия, — добавила она. — А тебе?
Но тут люстры начали меркнуть, и зазвучавшая музыка дала ему возможность уклониться от ответа, потому что на самом деле этот новый Хэншел пугал его. После концерта, когда гостей отвезли в отель, она сказала:
— Я хочу поехать к тебе. — Это было связано с такой же твердостью, с какой перед этим она заявила, что хочет быть с ним на концерте.
Только в последний день перед отъездом русской делегации Нику и Гончарову удалось еще раз поговорить о своей работе. Однако все эти дни Ник испытывал тихую радость наступившего возрождения. Он снова научился смеяться. Краски казались ярче, запахи сильнее, дни более солнечными, звуки более музыкальными, и даже пища словно приобрела новый вкус. Во время разговора мысли и прозрения возникали быстрее, чем он успевал облекать их в слова, и он совсем не уставал. В этот последний день, когда Гончаров пришел в лабораторию, погода изменилась. Косой ливень из клубящихся черных туч так хлестал по зданиям, что казалось, стены шипят. Временами бешеный ветер внезапно стихал, словно буря набирала дыхание для новой яростной атаки.
— Это из-за погоды сегодня пришло так мало сотрудников? — спросил Гончаров. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать рев грозы.
— Но ведь все мои сотрудники на местах, — ответил Ник.
Гончаров, казалось, удивился, а потом задумался. Прошло несколько минут, прежде чем он сказал:
— Судя по объему проделанной вами работы, я думал, что ваш штат по крайней мере вдвое больше.
Гончарова удивило также различие между его методикой и методикой Ника. Ник больше не пользовался счетчиками Гейгера, а перешел на фотоумножители и сцинтилляционные счетчики. Однако, когда Гончаров описал свою лабораторию, Ник понял, что русские придерживаются прежней техники потому, что у них разработаны более новые и остроумные электронные устройства.
— И значит, опять одно и то же достигается с помощью различных средств, — сказал Гончаров. — Сколько единиц вы получали в пустыне?
Там, в пустыне, жаркий сухой ветер проносился над землей, погруженной в полное безмолвие, лишь еле слышно шипел песок, ударяясь о сухую броню кактусов. Только весной пустыню на несколько дней заливал океан красок. Всю остальную часть года она сохраняла цвет высушенной кости с пыльно-зелеными пятнами кактусов, которые торчали из земли, словно сведенные судорогой пальцы заживо погребенных великанов. Пустыня была неподвижна, и только шары перекати-поля мчались по ней, вертясь, словно обезумевшие борцы, сплетенные в яростном объятии и катящиеся кувырком от одного мертвого горизонта к другому. А надо всем ярко-синее небо зияло дырой в бесконечное пространство, где огромные волны наэлектризованных частиц проплывали одна мимо другой со скоростью света.
Для этих частиц наша планета была островком в пространстве, окруженным тоненькой оболочкой газа. Налетающие частицы вспарывали газ, разбивая молекулы на осколки вещества и энергии, и каждый осколок в свою очередь становился разрушителем, пока этот невидимый ливень не достигал поверхности Земли, насчитывая уже миллионы невидимых обломков. Они бомбардировали Землю точно так же, как песок пустыни долбил кактусы, и проходили микроскопическими полосками света сквозь плоские листы люминесцентных сцинтилляторов, заключенных в алюминиевые контейнеры, расставленные на площади в пять квадратных миль. Под сцинтилляторами сверхчувствительные фотоэлементы улавливали световые полоски и подавали синхронный сигнал по кабелю в центральную станцию — небольшой домик, где скоростная камера фотографировала экраны ста осциллографов, только когда они срабатывали одновременно. Так достигалась уверенность, что ливень вызван первичной частицей, обладающей чрезвычайно высокой энергией.