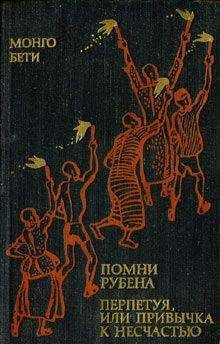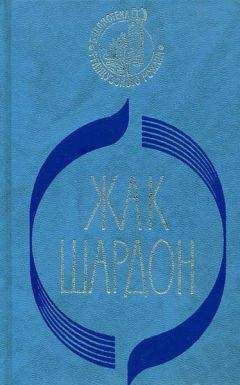Монго Бети - Помни Рубена
Как и подобает благовоспитанным молодым людям, они явились к старейшине не с пустыми руками, а прихватили калебасу с вином. Хозяин, сухонький печальный старичок, лежавший на бамбуковом ложе у самого очага, сел, налил в кубок вина и, отхлебнув добрый глоток, угостил свою старуху, которую оба друга заметили, лишь когда она подошла к мужу. Словно опасаясь, что у него отнимут угощение, старик то и дело наполнял свой кубок и осушал его сам или подносил жене: это зрелище умиляло Мор-Замбу, но выводило из терпения Абену, который видел немало подобных сцен и мог заранее предугадать любой жест старика. В промежутках между возлияниями хозяин, который теперь показался Мор-Замбе моложе, чем он думал вначале, позевывал, кряхтел, вздыхал и потрескивал суставами.
— Ну, сейчас он начнет говорить, — шепнул Абена на ухо Мор-Замбе. — И я даже знаю, что он скажет.
Старик и в самом деле заговорил тягучим и монотонным голосом:
— Мор-Замба, сын мой, ты и представить себе не можешь, как я благодарен тебе за то, что ты вспомнил обо мне, обратился ко мне за помощью. Я польщен и обрадован твоим доверием. Ох, разве ты можешь понять, мальчик, что такое быть стариком? Тяжкое бремя бесконечных трудов, неисчислимых несчастий и повседневных тревог скоро сведет в могилу того, кто с тобой говорит. Ах, мой милый Мор-Замба, ты видишь перед собой несчастнейшего из отцов, измученного, слабого человека, жалкий его обломок, тень, и это в то самое время, когда на него обрушились такие испытания. Ах, если бы ты видел, как мне сегодня пришлось поработать, если бы ты только видел, сколько дел нужно было переделать этому полутрупу, у которого и говорить-то с тобой едва хватает сил; если бы ты хоть краешком глаза взглянул, как я рубил, пилил, колол, надсаживался, гнул спину, ты, сын мой, пожалел бы меня, ты воскликнул бы: «Довольно, отец, довольно! У меня сердце разрывается от жалости! Иди домой, приляг у огня и ни о чем не думай. Я доделаю за тебя всю работу. Ведь я так молод, так силен. Мне ничего не стоит с этим управиться». Вот что ты сказал бы мне. Видишь ли, сынок, если в какой-нибудь общине старикам приходится самим поднимать новь, самим строить дома — значит, в этой общине что-то неладно. Не знаю, как идут дела у других, а вот что у нас они плохи — это мне ясно. Ну ладно, корчевать самому пни — это еще куда ни шло, но погляди-ка, сынок, на крышу моего дома: сущее решето, не так ли? Все звезды пересчитать можно. Да разве это крыша? Я не прошу у неба ни таких сильных рук, как у тебя, ни таких быстрых ног — все это не для меня. Я прошу о малом: мне бы только чуточку соломы, чтобы подлатать крышу… Ах, милый мой сынок, что-то у нас неладно!
В этот момент его перебил Абена, давно уже потихоньку толкавший локтем своего друга, который не отзывался на эти знаки:
— Не беспокойся, отец, завтра же мы займемся этим делом. Через две недели у тебя будет новая крыша.
Старик долго рассыпался в бесконечных благодарностях, насулил обоим друзьям кучу всяких благ и даже уверил их, что будущие жены непременно родят им первенцев мужского пола. Потом внезапно, словно по волшебству, оживившись и повеселев, он заговорил о том, что привело к нему обоих юношей. Он заверил их, не переставая прикладываться к калебасе, что его жизненный опыт и знание человеческого сердца наверняка восторжествуют над неуступчивостью Ангамбы.
Названый отец Мор-Замбы нисколько не был удивлен тем, что рассказали ему друзья о своем посещении.
— Да ведь у этого человека есть дети, взрослые дети! — негодующе воскликнул Мор-Замба.
— Ну и что из этого? — насмешливо спросил Абена.
— Как же вы допускаете, что у вас дети бросают на произвол судьбы своих престарелых родителей? — не унимался Мор-Замба.
— Погоди, ты еще и не то увидишь, — наставительно и загадочно заметил Абена.
— Всю свою жизнь, — сказал добрый старец, — я тщетно молил небо, чтобы оно послало мне хоть одного сына. А у старика, от которого вы только что вернулись, много сыновей — ему даже не пришлось просить о них. И однако, до той поры, как появился Мор-Замба, мы оба — он и я — влачили одинаково сирую и печальную старость. Да, человек этот породил детей, и дети его выросли, стали взрослыми. Ты видел их, Мор-Замба: они были твоими товарищами по детским играм, хоть и плохими товарищами. Ты знаешь, что это за люди. Но скажи мне, видел ли ты когда-нибудь, чтобы они словом или делом выразили хоть малейшее почтение к своим родителям? Сущее проклятие — вот что такое эти люди. Во времена моей юности мы боготворили родителей, мы не могли без боли в сердце смотреть на их страдания. А теперь нравы так изменились…
— Да что же такое, в самом деле, произошло? — спросил Абена.
— Много было разных разностей, сынок. Если рассказывать подробно, и целой ночи не хватит.
— Объясни хотя бы кратко.
— Мне кажется, — заявил старик, понижая голос, — что все начало трещать по швам с тех пор, как нам навязали вождя.
— Да, это верно! — воскликнул Мор-Замба. — Но расскажи нам, как было дело.
— Он не причиняет нам зла — что верно, то верно. Сидит затворником у себя наверху. Но никуда его не денешь. Мы бессильны его сместить — вот в чем наша беда. И жены наши, и дети видят наше бессилие.
— А кто он такой и откуда взялся? — настаивал Мор-Замба.
— До войны у нас был вождь из нашего племени. А потом явились французы, которые всем теперь заправляют. Они схватили нашего вождя и всю его семью, сказав, что те были пособниками их врагов. С тех пор о них ни слуху ни духу. Только не говорите об этом никому: детей не следует посвящать в такие страшные тайны. А потом французы указали нам на этого человека: «Смотрите, вот ваш новый вождь».
— Но почему не говоришь ты о том, что было еще раньше? — спросил Абена. — Ведь до прихода белых у вас совсем не было вождя.
— Вот как! Значит, ты об этом знаешь, сынок? Ты и прав, и неправ. В былые времена у нас не было вождя, мы улаживали все наши дела между собой, и никто не имел права навязывать нам свою волю.
— А они приказали вам избрать вождя! — гнул свое Абена.
— Да, чтобы он руководил нами всегда и во всем.
— И вы согласились преступить древние обычаи?
— До обычаев ли нам было, сынок? Речь шла о нашей жизни и смерти. Пойми, у нас ведь не было винтовок. А против хорошей винтовки идти с копьем или с голыми руками — все равно.
— Я не спорю. Но, если разобраться, ведь не тогда же начался весь этот разлад? Почему вашим детям не бросилось в глаза бессилие отцов еще в ту пору, когда вы преступили обычаи, избрав себе вождя, кем бы он ни был?
— Потому что тогда на нас не было никакой вины: против ружья с голыми руками не пойдешь.
— У вас не было ружей, понимаю. Но где же была ваша гордость, ваша отвага? Нет, бессилие ваше укоренилось в вас давным-давно — с того времени, когда вы, испугавшись нацеленных на вас ружей, сдались, опозорили своих предков, попрали свое исконное мужество и отвагу.
— Помолчи, дурачок, помолчи! Тебе ли судить о таких вещах?
Сказав это, старец глубоко вздохнул: он обычно подтрунивал над Абеной, как над малым ребенком, делая вид, будто его забавляют пылкие речи юноши, но на самом деле они задевали его за живое.
— Послушайтесь-ка лучше моего совета, — с наигранной веселостью снова заговорил он. — Поверь своему старому отцу, Мор-Замба: женщина стоит того, чтобы ради нее подвергнуться даже унижению. Я понял это, только потеряв свою жену. Так что, сынок, и у остальных старейшин постарайся вести себя так, же как у этого: предложи им выполнить любую работу. А в остальном я полагаюсь на присутствие духа и находчивость Абены: уж он-то не подведет.
— А я все спрашиваю себя, — мрачно заявил Абена, — я все спрашиваю, и, может, я прав: стоит ли так усердствовать, чтобы заполучить жен>? Не лучше ли приложить все старания, чтобы раздобыть винтовку? Если бы вы не тратили столько времени на поиски жен, а раздобывали бы лучше винтовки, то вождя, навязанного вам силой, наверняка уже давно бы не было там, наверху, в его логове. Все для женщины, ничего для винтовки! Ах, почтеннейший и благороднейший старец! И вы еще называете такую чушь мудростью! Нет, почтеннейший, я от своего не отступлюсь. Вождь, человек, который в одиночку заправляет всем, попирая обычаи предков, — это сущее несчастье! Что же сказать о вожде, которого нам навязали, об этом орангутанге, поселившемся в ближайшем лесу? Сначала о нем говорят как о покладистом соседе, который не только никому не причиняет зла, но в избытке одаряет всех бальзамом своей дружбы, справедливостью своего правосудия. Но время идет — и вот незваный гость сбрасывает маску, набирается уверенности, наглеет. Он жиреет, питаясь не столько плодами нашего труда, сколько нашими раздорами: ведь они ему слаще меда. Земля, на которой он обосновался, становится его собственностью, его бесспорным владением; никто уже не смеет гулять по этим угодьям, которые день ото дня все ширятся и ширятся. Потом у него появляются отпрыски, они растут и множатся, подобно ветвям баобаба, которому по оплошности позволили укорениться посреди дома. Не успеешь оглянуться — крыша уже рухнула, стены дали трещины. Сама того не замечая, община разваливается, обращается в груду обломков, которую топчут и в конце концов стирают в пыль завоеватели. Орангутанг победил, чудовище все пожрало! Вот что такое ваш вождь, о почтеннейший старец! Как же вы, наши отцы, согласились жить рядом с орангутангом? Ведь наша община давно уже задыхается от зловония, источаемого чудовищем, теперь это всего-навсего медленно разлагающийся труп. Мы прогнили до костей, мы сами себе противны, как противна прокаженному его гноящаяся плоть. Так суди же сам, о мудрейший старец, чего стоит женщина по сравнению с винтовкой!