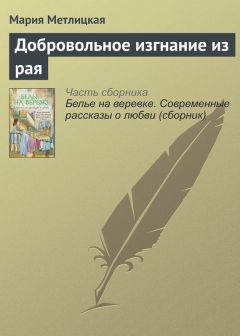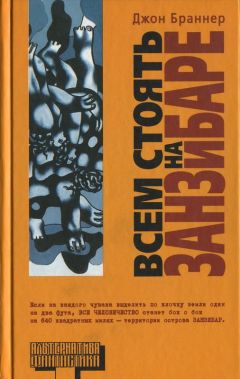Александр Илличевский - Матисс
Медведица не ела мяса. Не ласкаясь, она подходила, взглядывала Наде в глаза. Беззубая, вытянув губы, неохотно тянула, лакала соевую кашицу, которую наминала ей чурочкой Надя.
Бедствуя, зоопарк пустовал. Большую часть зверей отправили в подмосковные питомники на подножный корм. Посетителей почти не было – нечем им было забавляться, глядя на пустые вольеры. Только по выходным в зоопарке собиралась молодежь с окраин города – посидеть на лавках, выпить пива.
Лысая медведица слонялась по бетонному кошелю. Отвисшие складки, морщинистая кожа, узкая голова, круглые кожаные уши вызывали жалость, которую побеждало отвращение.
Когда медведица ослабла совсем, Надя стала к ночи загонять ее в задник, на полати, устланные сеном. Набрасывала на нее свое пальто, ложилась рядом. Медведица тоже ерзала, подвигалась. Так они вместе грелись.
Утром Надя отодвигала доску, проверяла заначку. Пересчитывала, засовывала и долго потом еще сидела смущенная, с красным лицом.
Ночью в зоопарке было страшно. Медведица всхрапывала, перекладывалась большим дряблым телом, скользила вонючим дыханьем по шее. Всюду мерещились расползшиеся из террариума гады. Надя видела, как тесно змеи живут – в коробках с лампочками.
Понятно, что они выползают в потемках на простор. Плакали шакалы, вздыхали яки, выпуская облака пара, волновавшие слой тумана, растекшийся им по колено. Дробно перебегали из угла в угол зебры, с треском бились в жерди ограждения. Взбалмошные утки хлопотали у воды. Всплескивали выдры. Фыркали моржи. В кормушках шуршали и чавкали хомяки – хомяки были повсюду в зоопарке, никаких крыс.
В последнюю ночевку на рассвете Надю охватил озноб. Она открыла глаза. Было тихо. В щелях серое небо тлилось рассветом.
Она выпросталась и обернулась. Раскрывшись всем безобразным голым телом, медведица лежала навзничь с неподвижными мокрыми глазками.
Губы тянулись вверх, словно к миске. Постепенно они обмякли, открылась улыбка.
Матвеев поделил медведицу на прокорм волкам и гиенам.
Ветфельдшер Поливанов – дядька в сломанных очках – разнес медвежатину.
Надя ходила от вольера к вольеру. Она как-то двигала рукой, раскачивалась, и губы ее плясали, беззвучно, будто пробуя что-то – не сам воздух, а что-то в нем, далеко.
Красный волк до медвежатины не дотронулся.
Тогда Поливанов перекинул его долю грифам.
Надя стала собирать кости. Пока забирала, гиены ее подрали.
Матвеев перевязал ей лодыжку и сам добрал остальное.
Смрадный мешок с костями она затащила на чердак в Стрельбищенском переулке. Вадя вскочил, закружил, вытолкал мешок, он громыхнул на площадке. Надя стояла зареванная, хватала его за плечо и тянула вниз, притопывая.
– Ты что, совсем одурела, ты что? – Вадя толкнул ее в грудь.
Надя бессильно ударила его, замычала.
Вадя вытолкал ее с чердака. Спустился сам. Закурил, завалил на спину громыхающий мешок и, пуская дым под нос, быстро потащил на Мантулинскую, в парк. Раскачиваясь, Надя шла за ним. Она ускоряла шаг и, дотянувшись, трогала мешок.
В парке, дождавшись, пока пройдут прохожие, Вадя закинул мешок в пруд.
О деньгах, спрятанных в вольере, Надя не вспомнила.
КОРОЛЬ
Королев не всегда был живым трупом. В школьные и студенческие годы он с отрадной поглощенностью оставался открыт миру мыслей, их конструкций. Мир людей долго казался ему простым, не требующим никаких усилий, кроме добра и честности. Эти категории долго и неэкономно понимались им как аксиоматические, не требующие вникания.
Королев добросовестно считал, что ему в жизни повезло. В детдоме с ним жили нормальные дети, учили его добросовестные учителя. И воспитатели относились к нему снисходительно: как к сумасшедшему, но способному ребенку.
Поселок Яблоново под Коломной. В детдоме восемьдесят четыре воспитанника. Отсюда уют и внимательность надзора. Память о младшей школе сопряжена с лесными, речными походами (на байдарках по соседней Калужской области, по партизанским местам: поисковый отряд «Кассиопея», лесистые берега Угры, болота, дебри, белые рыхлые кости, крепкие челюсти, стальные, холодные в ладони коронки, обрушенные землянки, канавы окопов, сорокапятка на целом, колесном ходу, гаубичные снаряды, выплавка тола, взрыв, оторванная кисть Игната, фашистский «Тигр» по башню в трясине, похороны руки, на берегу, посадили у холмика иву, гибкую, стройную, как рука, как пальцы) и, конечно, с физикой и математикой.
Королев питался задачами. В седьмом классе в журнале «Юный техник» он прочел условия вступительных задач в заочную физико-техническую школу при МФТИ и с тех пор не мог остановиться. Чтобы заснуть, он прочитывал условия двух-трех задач – и утром, еще в постели, записывал решения. В восьмом классе, после областной математической олимпиады его пригласили в лучший в стране физмат-интернат. И он поступил. Так прослыл Королем.
Королев обожал вспоминать, он жив был тем сильным чистым огнем, которым его наполняло детство. Несколько лет ездил в оба интерната на школьные каникулы, на День Учителя. Огонь постепенно гас. В младший интернат он приезжал уже не как домой, но все равно ездил регулярно, пока не расформировали. Тогда стал наведываться к своей «классной», в Коломну. Зимой третьего курса Мария Алексеевна умерла. Родственники ему телеграмму не дали. Он приехал через месяц, пришел на кладбище, сел у могилы в сугроб. На ограду уселась галка. Так они и просидели до самых сумерек, озираясь на заставленную крестами, зарешеченную белизну.
XXXIIДругой класс Королева, несмотря на горячую дружность, со временем оказался разобщенным, как если б его и не было. Многие разъехались по стране и миру, остальных жизнь растащила в углы. Ровно то же произошло с его институтскими однокурсниками. Их море жизни разнесло еще неописуемей. Кто-то, как он, впал в прозябание, кто-то стал богатым, кого-то – по части бизнеса – посадили вымогатели или конкуренты, кого-то по той же части убили, и лишь немногие сумели остаться в науке, да и то ценой эмиграции.
Воспоминания о школе, об институтском времени долго питали Королева, пока не остыли до понимания скуки как интереса. Школьная жизнь обрела меньший градус окрашенности, зато возникла отстраненная занимательность, позволяющая погрузиться в малые каверны, выследить неведомые царапины – вместе с жизнью снятого с мира слепка. Так, расставшись с любимым лицом, оказываешься не в силах вспомнить, и тогда пунктир проблесков, деталей, ракурсов – чуткий профиль, дрожанье подбородка, кружевная оборка, носовой платок, глянувший из-под рукава, – крохи мелких, незначащих черт замещают собой щедрость целокупного облика.
Как следопыт погружается в поведенческий рельеф следов кем-то другим убитого зверя, как планерист вписывает взгляд в пылающий вулканический ландшафт, возносящий его вместе с горячими токами воздуха – так, вспоминая школу, Королев не помнил ни детства, ни его быта, ни желания иметь родителей, так мучившего, снедавшего его друзей. Королев был созерцательно поглощен походами и высокой учебой, он тянулся к познанию, как другие дети – к теням родителей, он был покорен стремлению к тайнам разума и мира.
Из быта остались в памяти только несколько произвольных вещей. Прорванная батарея отопления, чудом не ошпарившая тех, кто на ней сидел. Алюминиевые ложки, закрученные архимедовым винтом, которые тут же на раздаче нужно было сунуть, прорвав пенку, в стакан с какао – для сбереженья тепла. Мышиные хвостики среди мослов и жил (узорно-тектоническое плетенье – как в бумаге из волокон и плотных соков древесных жил), из которых состояла пайковая колбаса цвета марганцовки. Грохот воробьиных свадеб, подымавших за окном рассвет. И тошнотворный запах пригоревшего молока в столовой, отваживавший его от завтрака.
В выпускном классе Королев был вынужден откликнуться на моду, в которую вошли рассуждения о духовности, и ознакомился с Библией. Вскоре вопрос о религии был решен при помощи следующего рассуждения, которое он произвел в качестве ухаживания (лунная ночь, Кунцево, окрестности сталинской дачи, дорожки, высоченный зеленый забор первичного ограждения, вдалеке за деревьями шоссе проблескивает пунктиром фар, белые ложа скамеек, на которых постигается пылкая наука любви, сухие пальцы бродят у пояска, скользят вверх, встречая нежную упругость):
– Может быть, я изобретаю велосипед, но из теоретической физики ясно, что мощные, головокружительные, малодоступные модели мироздания, порожденные интеллектом, если повезет, оказываются «истиной», то есть чрезвычайно близкими к реальному положению дел во Вселенной. Не потому ли именно так обстоит дело, что разум, созданный – как и прочее – по образу и подобию Творца, естественным способом в теоретической физике воспроизводит Вселенную – по обратной функции подобия? Тогда проблема строения мироздания формулируется как поиск своего рода гомеоморфизма, соотнесенного с этим преобразованием подобия…