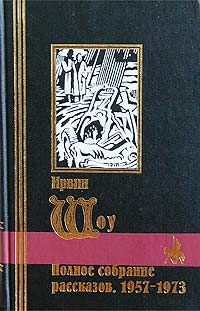Марина Юденич - Ящик Пандоры
— Наверное, это ужасно… — тихо произнесла она, грустно глядя на Ванду сквозь золотистую жидкость, заполнявшую до краев тонкий бокал на высокой ножке.
— Что именно? — Ванда в этот момент вспоминала, какое на ней белье и не следует ли уже сейчас освободиться от некоторой его части. Долгая прелюдия с «Ломоносовым» вряд ли могла оказаться для нее интересной. Посему минорный пафос Таньки дошел до ее сознания не сразу.
— Сознавать постоянно, что людям, которые так и липнут к тебе, на самом деле нужна не ты.
— Не я? — Теперь Ванде мысль собеседницы была уже ясна вполне, но «Ломоносов» где-то замешкался и можно было позволить себе порезвиться.
— Разве ты не видишь: он готов сейчас же сделать тебе предложение. Может, он как раз рванул за свадебным букетом.
— Возможно. И что?
— Но ведь ему нужна не ты. В том смысле, что не просто ты, а ты вместе со всеми своими связями, возможностями… — Танька, кажется, начала понимать, что совершила ошибку, хотя представить до конца ее последствия, разумеется, пока не сумела, поэтому попыталась спасти положение: — Нет, конечно, он совершенно балдеет от тебя…
— Ты находишь? Но это не имеет значения. Я все равно решила, что сегодня пересплю с ним, а дальше — будет видно. Кстати, тебе, думаю, удобно будет удалиться по-английски именно сейчас. Вот, — Ванда протянула через стол купюру, — возьми такси и обязательно позвони мне на мобильный, как доберешься, чтобы я не волновалась.
Танька поняла, что это конец. И не ошиблась. Утром к ней домой заехал водитель Ванды и абсолютно бесстрастным голосом попросил вернуть мобильный телефон, какие-то счета и бумаги, словом, все, что формально связывало Таньку с Вандой. Сама же Ванда ей не позвонила ни разу. Это у нее было тоже бабушкино — гадких, предавших ее или оказавшихся просто недостойными людей она просто отшвыривала от себя подальше, как кожуру от банана, съеденного на пляже, у реки, если вблизи не оказывалось подходящей емкости для мусора. И старалась забыть об их существовании как можно быстрее. От этого иногда страдали ни в чем не повинные общие знакомые: им тоже ни с того ни с сего вдруг давали полную отставку просто потому, что они невольно напоминали о чем-то неприятном.
Странными были эти ощущения. Но не страшными, хотя все основания напугать Ванду до смерти у них были. Она вдруг совершенно отчетливо ощутила, что десять без малого лет ее жизни удивительным и уму непостижимым образом исчезли, растворились в необъятном океане плескающейся вокруг вечности. Причем у Ванды, редко направляющей свои мысли в путаные лабиринты размышлений о вечности, сейчас сложилось именно такое ощущение — плескающейся вокруг необъятной непостижимой субстанции, которая бережно раскачивает ее на своих волнах, вдруг прибив к узнаваемому отрезку суши. Не просто узнан, но знаком до боли, ненавистен и ужасен был он Ванде — ибо этой сушей был далекий ныне и почти забытый ею Туманный Альбион, холодные и чопорные берега которого приняли ее в ранней совсем юности, почти детстве. Пока жив был несчастный отец Ванды, знаменитый польский шляхтич, он долгом своим почитал, влача вместе с прочими домочадцам совершенно несносное существование, обеспечить единственной дочери достойное образование в одной из самых прославленных в Великобритании и в Европе частных школ для девочек, знаменитой, кроме всего прочего, и крайне суровым отношением к своим воспитанницам.
Однако в жизни Ванды очень скоро наступят дни, когда времена пребывания в мрачных стенах знаменитой школы станут вспоминаться ей едва ли не как самые счастливые дни ее юности. Увы, они закончились сразу же после того, как ее благородный отец покинул этот мир и более некому было выбиваться из последних сил и унизительно экономить каждый грош, чтобы вовремя оплатить обучение дочери. Оказавшаяся буквально на улице, от неминуемой гибели, если не физической, то уж нравственной-то точно, спасена была Ванда добрым участием одной из воспитательниц школы, отыскавшей ей место компаньонки у некой одинокой типично британской мисс и давшей той соответствующие гарантии.
Господь наверняка воздал той доброй женщине за ее участие в судьбе бедной сироты, но, если бы та достойная леди могла представить себе хоть малую толику rex страданий, душевных и физических мук, на которые обрекла Ванду своей добротой, она воздержалась бы от свершения своего благородного поступка.
Леди Бромлей от всего немалого и прославленного в трудах дотошных британских историков благородства, богатства, славы и доблести своего семейства к тому моменту, когда Ванда впервые переступила порог ее убогого жилища, сохранила лишь имя и маленького древнего мопса по кличке Анри, принадлежавшего, похоже, еще ее покойной матушке.
Впрочем, собственное имя и мопс были единственными атрибутами прошлого, которые остались у леди Бромлей в действительности, на самом деле, однако (и в том крылся источник самых страшных испытаний для Ванды!), очень многое эта старая дева сохранила в своем явно нездоровом воображении, полагая, что положение ее с давних времен юности никак не изменилось.
Леди Розалинда Бромлей словно не желала замечать, что она не владеет более несколькими роскошными поместьями и огромным домом на Итон-сквер, действительно принадлежавшими когда-то их семье, но давно уже промотанными, проигранными, заложенными ее непутевым братом, который много лет назад пустил себе пулю в лоб, поняв, что очередной карточный долг останется неоплаченным.
Она по-прежнему требовала себе лучших сортов чая и лучших сливок, лучшей баранины к обеду и лучших брюссельских кружев к новому платью. Как и прежде, она желала, чтобы по утрам ей читали в газетах, как оценили ее новую шляпку на скачках в Эскоте светские хроникеры, и требовала, чтобы к вечеру не забыли отправить посыльного в цветочную лавку: букеты от поклонников, конечно же, будут, но не мешает позаботиться и самим — ее театральная ложа должна утопать в цветах и, разумеется, несколько корзин от имени леди Бромлей должны быть посланы на сцену, актерам…
Надо ли говорить, что единственным человеком, на плечи которого обрушились все эти многочисленные требования, стала Ванда. Скромная квартирка в закопченном районе Лондона и безответная полька- компаньонка — это было все, что могла себе позволить теперь леди Розалинда Бромлей, и то лишь благодаря пожертвованиям некогда близких друзей. Квартирку она просто не замечала, а с Вандой обращалась так, словно вместо нее вокруг по-прежнему сновал целый штат вышколенной прислуги. И семнадцатилетней шляхтянке пришлось научиться исполнять одновременно все эти роли: истопника и трубочиста, посудомойки, прачки, белошвейки, сапожника, латающего подметки некогда изящных ботиночек молодой леди, от которых теперь почти ничего не осталось. Разумеется, в Лондоне было огромное количество людей, которые с удовольствием и совсем за небольшое вознаграждение выполнили бы эту работу намного лучше Ванды, но всем этим добрым и славным людям надо было платить, а денег не было вовсе. Пред светлые очи грозной леди Ванда представала в образе портнихи и горничной, повара и лакея, садовника и даже журналиста светской хроники, когда, развернув наугад любую из попавшихся под руку газет, она вдохновенно фантазировала, на ходу сочиняя бойкие заметки.
Впрочем, и это было еще не все: окрестные лавочники очень скоро узнали Ванду и, заметив издалека ее хрупкую фигурку, спешили скрыться за своими широкими прилавками. Даже им, циничным любителям пива и жирного йоркширского пудинга, нелегко было отказывать ей, говорящей тихо, с легким приятным акцентом и такой разрывающей душу мольбой в голосе и огромных светлых глазах, что сердца лавочников сжимались от острой жалости к этой польской девчушке, вконец замученной сумасшедшей леди. Тогда на прилавок сочно шлепалась тонкая баранья отбивная, или несколько ребрышек, или самая что ни на есть тощая куриная ножка, или несколько картофелин, фасолин, или пара-тройка яиц, а порой — и полфунта кофе. Словом, иногда Ванде везло и лавочники не успевали или не хотели прятаться за широкие прилавки.
Но самым тяжелым испытанием для Ванды оказался Анри. Пес был уже очень стар, а Ванда с детства отличалась патологической брезгливостью. Однако главное все же было не в этом. Воспитанная в строгости истинно викторианской, Ванда никогда не посмела бы манкировать своими обязанностями и по отношению к грязному, капризному животному, которое принимало пищу только после того, как ее разжует человек, и будучи от природы добросердечной и милосердной девушкой, не смогла бы ни словом, ни жестом обидеть мерзкую собаку. Но Анри, несмотря на свою древность, а возможно, именно в силу ее, был крайне наблюдателен и неглуп и имел такой же, как у хозяйки, отвратительный характер, причем у обоих обострена и отчетливо выражена была склонность к садизму. И если леди Бромлей могла потребовать от Ванды немедленно убрать с ковра выпавшие из камина ярко тлеющие угли руками, потому что каминные принадлежности, по мнению леди, в этот момент были слишком далеко и ковер (давно утративший свой первозданный цвет и вид, со множеством потертостей и дыр) мог пострадать, то Анри был более утончен и, разгуливая по столу во время пятичасового чая, срыгивал только что проглоченный кусочек сконса непременно рядом с чашкой Ванды или, того хуже, попадал прямо ей на блюдце.