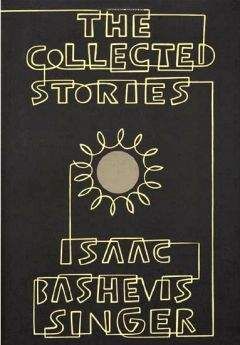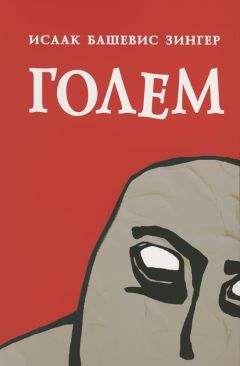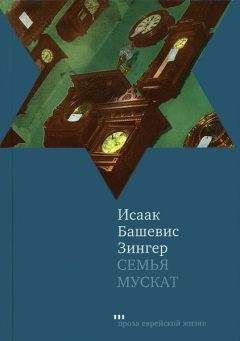Енё Рейто - Аванпост
Латуре любил обильно производимое в окрестностях Орана сухое красное вино, он полюбил форт Сен-Терез и покойную жизнь отвоевавшего свое ветерана, но теперь он с радостью отправлялся в адское пекло отдаленного укрепления, потому что там Голубь будет у него под рукой… Позорное пятно на его карьере, сокрушитель его унтер-офицерского авторитета, этот ухмыляющийся молокосос, этот подлый притворщик, он ему еще покажет… Norn du nom.
В настоящий момент, однако, ухмыляющийся молокосос спал в тени крытой брезентом повозки с красным крестом, здоровый как бык, но пользующийся всеми преимуществами больного солдата. Ему было от души жаль этого беднягу Латуре. Закоренелый солдафон, конечно, но в общем неплохой парень.
А рота все идет и идет. Настанет вечер, потом опять утро. А она все будет идти…
Голубь выглянул сзади в щелочку. За повозкой, на порядочном расстоянии, плелся арьергард с навьючеными на мулов пулеметами. Еще дальше то появлялись, то вновь скрывались за барханами конные отряды туземцев.
Легионеры не любят этих странствующих рыцарей, которые сопровождают регулярные войска по пустыне и располагаются лагерем вблизи укреплений. Настоящая разбойничья шайка, которую в любом сражении интересует только добыча.
Впереди повозки вилась длинная змея растянувшихся по пустыне людей. Среди бесконечных желтых холмов, в невыносимом пекле, когда нигде не видно ни пятнышка тени, только режущий глаз белесый покров и мягкие волны… волны… насколько хватает зрения, везде только желтые волны…
Врач спал, разостлав на сложенных в кучу мешках «…» одеяло… Может, сейчас рассмотреть бумажник?…
Нет… Пока он не выяснит, что внутри, нужно быть очень осторожным. Вот, пожалуйста… Несут солдата, который бьется в судорогах… На губах выступила пена, харкает кровью… Его укладывают. Вскакивает сонный врач. Кладет больному на голову лед… Бесполезно!… Наверняка закупорка легких… Лопнул сосуд… Лицо и руки солдата покрывает серая пыль.
— Fini!… [Кончено! (фр.)] — шепчет кряжистый доктор и вытирает полотенцем короткую, волосатую шею…
К четырем часам пополудни они достигают первого оазиса. Длинный свист. Полковой врач косится в сторону рассевшегося в повозке здорового солдата.
— Прошу вас, господин главврач, — неожиданно обратился к нему Голубь, — я хотел бы вернуться в строй, но мне приказано ехать в повозке. Не мог бы я отдать свое место более немощному? Рана в плече уже совсем меня не беспокоит.
— Я улажу этот вопрос, — с готовностью ответил Доктор. -Достойное решение… Я думаю, господин лейтенант возьмет на себя ответственность и позволит вам Уступить свое место какому-нибудь инвалиду…
Лейтенант помянул в дневном приказе, что место полностью поправившегося рядового номер сорок в санитарной повозке может занять другой больной, и рядового номер сорок отправили по месту службы, в маршевую роту…
2
Наконец— то…
В быстро остывающем ночном воздухе Сахары все закутались в шинели, вдалеке, в лагере туземцев, светились кремни, которые используют для жарки лепешек. Трубач протрубил отбой.
Голубь в одиночестве пробирался между редкими пальмами, чтобы в каком-нибудь укромном местечке изучить содержимое бумажника. В ветвях повизгивали обезьяны, кругом стрекотали бесчисленные цикады.
— Постой, приятель! — раздался позади крик. Это был граф. Неужели опять помешают?
— В чем дело, ваша милость?
— Не издевайся… Вот уж от тебя не ожидал. Не ожидал, что ты… под стать всем остальным.
— Клянусь тебе, я и не думал издеваться. У тебя такие изысканные манеры, старик, что поневоле поверишь в твое высокое происхождение.
— Мое происхождение… — Удлиненное, тонкое лицо графа помрачнело. Высокий лоб с причудливыми залысинами над висками покрылся морщинами, большие, чистые, голубые глаза устремились вдаль. — Я хочу тебе кое-что сказать… Ты не такой, как другие… Подружился с поэтом, вдруг я тоже смогу быть с тобой откровенен…
Против своей воли Голубь выдавил из себя:
— Ради Бога… сделай милость, расскажи все… хотя сейчас…
— Я поляк, родом из Луковца. Когда мне было пятнадцать лет, я нашел ружье…
Вздохнув, Голубь сел рядом с графом на камень. Вот, оказывается, что. Ну-ну… Деваться некуда, послушаем драму этого господина.
— Моя настоящая фамилия Шполянский, и… Как ты думаешь, кто был мой отец?
— Герой войны за независимость. Казнен по приказу царя Павла I…
— Почти угадал, но не совсем…
— Послушай… По тебе видно, что ты благородных кровей. Признайся, что ты убил ту женщину… или что, будучи гвардейским офицером, спустил в карты полковую кассу, рассказывай свое кино, и ляжем спать…
Граф вздохнул. Грустно помотал головой и поднялся.
— Нет. Все же не могу рассказать… Даже тебе… Не сердись…
— Я не в обиде, — с плохо скрываемой радостью ответил Голубь.
Шполянский с тяжким вздохом поплелся к лагерю… Одну ногу он чуть-чуть приволакивал… Хромой он, что ли?
А, не важно!
Голубь вышел к самой границе оазиса, где пыль уже толстым слоем покрывала кусты. В лунном сиянии перед ним простиралось бескрайнее, серебристо-белое море песка, словно настоящий океан.
Он огляделся… Нигде никого. В тишине раздавались лишь крики какого-то неугомонного какаду, кваканье нескольких лягушек, и откуда-то совсем издалека доносилась монотонная песня туземных конников.
Сквозь ветви стройных пальм пробивалась полоска лунного света. Как раз можно читать. Голубь вытащил бумажник. Обыкновенный кожаный бумажник, какие встречаются на каждом шагу. В бумажнике было много всякой всячины. Во-первых, пятнадцать тысяч франков. Несколько квитанций, множество визитных карточек. Вырезка из газеты — заметка в полстраницы, обведенная красным карандашом:
КРОВАВАЯ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА В ДОМЕ ДОКТОРА БРЕТАЯ
Вчера вечером в аристократическом квартале Орана, точнее на бульваре Бонапарта, произошли кровавые события. Доктор Бретай застрелил свою жену и капитана Коро, а потом покончил с собой. Доктор Бретай не так давно вернулся из окрестностей Нигера, куда он сопровождал пропавшую экспедицию исследователя Рюселя, будучи секретарем этого большого ученого. По возвращении домой доктор Бретай женился на вдове трагически погибшего исследователя. Женщина необычайной красоты, она когда-то была певицей и лишь ради Рюселя оставила сцену. Однако в Оране, где чета
Рюсель жила открытым домом, в прошлом известная певица принимала иногда участие в благотворительных вечерах. Обычно она пела свою знаменитую песню «Si l'on savait».
Si l'on savait…
Песня в комнате рядом с мертвецом! Песня, которая постоянно звучала, но ее никто не пел! Голубь читал дальше.
«…После смерти ученого его личный секретарь, доктор Бретай, женился на вдове Рюселя, и их супружество, казалось, было вполне счастливым, пока вчера вечером не разыгралась кровавая семейная драма.
В доме находились лишь двое лакеев, и показания последних полностью совпадают. Доктор Бретай был в отъезде, кажется в Алжире, а мадам Бретай принимала в гостях капитана спаги Коро, знаменитого наездника. По свидетельству лакеев, капитан Коро не раз появлялся в доме в отсутствие доктора Бретая. Драма разыгралась в одиннадцать часов вечера. Один из лакеев накрывал в гостиной чай. Мадам Бретай сидела за роялем и пела «Si l'on savait». Внезапно в дверях показался Бретай! Лакей услышал два выстрела, вскрик и звук падающего тела. Капитан Коро и женщина упали с простреленными головами. И, прежде чем слуга успел вмешаться, доктор Бретай выстрелил себе в висок. Когда приехала «скорая помощь», все они были мертвы…»
Голубь закурил. Вспомнилась вилла. Пыльные комнаты и та странная женщина с родимым пятном…
«…Были ли основания для ревности? Кто знает, — писалось дальше в заметке. — Возможно, пережитые в экспедиции треволнения подточили нервную систему доктора Бретая, или, может быть, интересная женщина, носившая треугольный знак не только на руке, но и в сердце, и в самом деле воспылала страстью, сначала к бывшему секретарю мужа, а теперь к капитану Коро? Никто не даст нам точного ответа на вопрос. Безусловно одно: общество Орана понесло ощутимую утрату…»
Посередине заметки помещалась фотография… Красивая женщина, голова необычной лепки, сросшиеся, густые брови и на редкость выразительные, грустные глаза,
Вдруг где-то, где-то совсем рядом, тихо зазвучал знакомый приятный женский голос;
Si l'on savait…
…Голубь замер.
…От ночного ветра пальмовые листья соприкасались друг с другом, издавая шо^ох,… Теперь слова перешли в напев… Точно… Тот же самый голос!
Голубь вскочил!… И пошел на звук голоса, но мелодия странным образом удалялась… Сам черт его морочит… Вот опять ясно слышится: «Si l'on savait…»
Еще несколько деревьев, и начинаются пески.
Голубь остолбенело застыл!