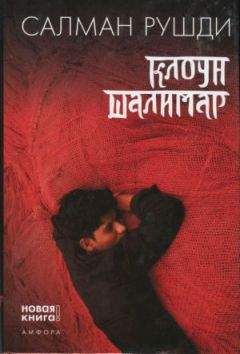Николай Крыщук - Кругами рая
Лучше. И как бы в этом уже не он один виноват. В ворчанье главное, чтобы все были повязаны виной, а так как все виноватыми быть не могут, то и получается, что виноват Некто. То есть никто. Такой вариант устраивает практически всех.
Вот только атмосфера может ли «выветриться»? Впрочем, врать против языка для ворчуна – прямая необходимость. «Атмосфера выветрилась!» Хорошо. «Дух ушел!» Это похуже. Совершенно непонятно, чей, какой и куда!
Что-то и правда менялось. А для стариков ведь это всегда к худшему. Раньше, например, ради крохотной сноски студент неделями не выползал из библиотек. А теперь… Дело не в усердии, а в призвании, которое всегда ответственно и, можно сказать, совестливо. Когда в публикации приходилось писать «источник неизвестен» или «лицо не установлено», все понимали, что речь идет пусть и о небольшом, но поражении. Кто-то по твоей вине снова ушел из жизни, на этот раз окончательно.
Исследовательский фанатизм в какой-то степени уравнивает ученого с художником. Оба работают против забвения, дают или возвращают имена, наводят в потемках свет. Перед истиной равны.
Кафка объяснял своему «Эккерману», которым оказался лечащий врач, что молитва, искусство и научное исследование – три языка пламени, вырывающиеся из одного очага. Молитву оставим по незнакомству с предметом, но в целом правильно. И наука, и искусство выжигают из жизни случайное. Иначе каким образом из того, что как-то живет, о чем-то думает, сколько-то умеет, страдает и любит, трусит, мелочится, а в конце концов старится, стирается, превращается и умирает, получается то, что этим же временем, из того же самого материала возникает, становится и остается?
Тогда же Кафка сказал так веско, словно понимал, что диктует для мемуаров. Ключ оставлял. Ложь, сказал он, это искусство, которое требует огня страсти, всего человека; она больше открывает, чем скрывает. Ему это, мол, не по силам, и поэтому для него остается только одно прибежище – правда.
Профессор всегда удивлялся тем, кто считал Кафку трудным писателем. Ему, напротив, казалось, что фантазия у того не слишком богатая. Он не конструировал абсурд, даже не анализировал его, а только описывал, как натуралист, стараясь не привносить в оригинал собственных эмоций. Смысл происходящего ему был заведомо неизвестен. Тут он действительно беднее, но и честнее тех писателей, которые с помощью вымысла придают своим сюжетам вид завершенности, что равнозначно тому, как если бы они понимали смысл того, что описали.
Вообще-то культ правды, процветавший при советской власти, ГМ не соблазнял даже и в пионерском возрасте. Еще в детстве сама гарнитура заголовка газеты «Правда» казалась ему набором ветеринарных инструментов, аккуратно разложенных перед операцией, а государственный бас Левитана шел из подземного царства и наводил ужас. В школьных делах требование правды всегда было предложением кого-нибудь или что-нибудь предать или, по крайней мере, назвать то, что должно оставаться в состоянии неназывания. Вопрос «классной»: «Скажи правду, почему ты прогуляла уроки?» – надо было перевести так: «Виолетта, признайся классу, что у тебя вчера была менструация».
В возрасте, когда всякое понятие еще нуждалось в лице, ГМ страдал из-за своей нелюбви к Ленину. Ленин, несомненно, был олицетворением Правды, но Правда в его лице никогда ничем по-человечески не озаботилась, кроме как сырыми простынями Горького. И то не потому, что тот был ему симпатичен или из-за вечной его простуды, схваченной еще на бурлацкой Волге, а исключительно по причине его полезности партии.
Жить было неуютно.
И тем не менее, ГМ был правдив. В отношениях со всеми без исключения он старался быть точным, обращаясь только к тому подлинному, что есть почти во всяком человеке. Или уж не общался совсем, сведя к минимуму и поклоны; а улыбнуться не смог бы даже по ошибке, даже в состоянии застольного наркоза. Тут биология поставила, видимо, предел его артистизму.
Подлинность – качество человека, которое описанию не поддается. Оно не ум, не талант, не обаяние, не культура, не манеры, не преданность, не доброта, не храбрость и уж конечно не правдивость. ГМ часто думал об этом. Почему так бывает: войдет неизвестный и откажется от чая или, напротив, сам попросит чаю, закурит и потом станет виновато искать пепельницу, возьмет на руки кошку, скажет что-нибудь вроде: «Я завистлив сверх меры» – и посмотрит при этом тихо и прямо, и ты вдруг поймешь, что пришел человек, и тебе станет спокойно? Думаешь, глядя на него, что этот вздыбленный куст на темечке доставлял хозяину, наверное, много неприятностей еще в детстве, но так и не покорился.
В откровенья ГМ не пускался ни при каких обстоятельствах, да и другие при нем как-то подбирались. Лирическое откровение – сплетня о себе, вальс в подштанниках, шепот в микрофон, надушенный платок на позвоночнике учебного скелета. Лирические излияния коллеги или женщины могли довести его до сердечного приступа, и он в полном сознании репетировал смерть.
Была еще суровая откровенность друга, женственный огонек жертвенности в брутальном взгляде. Ради правды (о тебе, и по большей части гадкой) человек готов был лишиться самого дорогого, дружбы с тобой же. Похоже на железный обруч, который кидают под видом спасательного круга.
Человеком вдруг овладевает высокое и сладостное чувство власть имущего. Оно всегда застает его врасплох, сопровождается чесоткой и требует немедленных действий. Таким состояниям чаще подвержены люди не уверенные в себе, легко переходящие от гневных тирад к тихому сну на плотных коленях богини.
В момент решительного откровения несчастному и в голову не приходит, что властью его никто не наделял, а он вручил ее себе сам. Главное же, он взялся властвовать над тем, над чем властвовать невозможно. Невозможно! Если бросить мертвого комара, пошутил юморист, то он не полетит; вернее, полетит, но не туда и не так. Потому что легкий. Душа человека тоже состоит сплошь из легких материй…
Дуня бы сейчас всплеснула руками и возмутилась: «У убийц тоже?»
Свою жизнь ГМ надежно оградил от любых фамильярных или патетических налетов. Попробуй сунься в мой театр, думал он, ноги сломаешь, пробираясь сквозь декорации, и сам не заметишь, как обнаружишь, что бросаешь последние свои приговоры кукле шута.
Откровенность только притворялась правдой. В отношениях людей правда, скорее, отрицательный прием и в этом смысле откровенности противоположна. Ведь не сказать сплошь и рядом труднее, чем сказать. Особенно это относится к словам, которые газетные болтуны называют драгоценными. К ним меньше всего доверия. В каждом таком перстеньке – яд замедленного действия. Баловаться ими опасно, а украшаться глупо. Легче камень поднять, чем вымолвить слово «любить».
* * *Стоило ему подумать о Дуне, как тут же стало вспоминаться сегодняшнее утро, скверное, надо сказать, еще до всяких разборок на кафедре, о которых он тогда и подумать не мог.
Сквозь сон ему показалось, что Дуня зовет его. Он поднял с пола кружку, глотнул холодного кофе, закурил и замер, не закончив движение, в позе эмбриона. Обратиться в слух – сейчас это было про него.
Объективно говоря, проснуться он мог и от голода. Бутерброд так и остался недоеденным. Утренняя бодрость члена, эта пещерная поверка, после того как они с женой стали спать отдельно, вызывала тоску. В таком состоянии он мог бы, кажется, нырнуть в водопад. Дуня окликнула его…
За стеной было тихо.
«Если заболела, еще конечно, позовет, – подумал он. Ну а если просто так, то есть в высшем смысле просто так?»
Он ждал этого каждый день и теперь боялся верить. Рано или поздно должно ведь это случиться. Не может их соломенное вдовство длиться вечно. Доживать, писать, как соседи, записки о звонках и выкидывать тайком из холодильника остатки колбасы трупного цвета? Этот альтруизм уже попахивал криминалом.
Выяснение отношений невозможно, лучше второй раз родиться. Страсть? Но в их возрасте это почти то же, что детский грех с добровольным участием одноклассниц, граций и советских спортсменок из «Огонька». При этой мысли его передернуло.
Ну и что же тогда? Операция «Ресторан»? Ненавязчиво так, в легкой манере, начать снова ухаживать за своей женой? Карнеги, твою мать!
Перед глазами его возникло отражение беременной Дуни в вагонном окне из только что прерванного сна. На какой-то миг представилось, что это реальность; вернулось лето их первых встреч, когда за каждым изгибом Сестры они находили себе постель; слепни и комары шалели вместе с ними. Больше одного ребенка они не могли себе позволить. Утром и днем лекции, ночь – на рукописи, какой ребенок? Так считал, правда, только он. А в лексиконе жены появилось мрачно насмешливое слово «абортарий».
Потом уже, после ссоры, он нашел у нее листочек, на котором были записаны рукой Дуни имена неродившихся детей. Артем, Василий, Мария и два раза Александра. Но когда этот листок попался на глаза, рисковать уже было поздно.