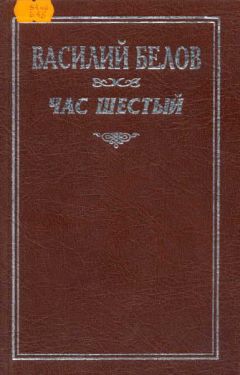Василий Белов - Час шестый
Киндя хихикнул:
— Так, таварищ Скочков, они у меня это… карманы-то с дырами. Ежели и были, дак давно выкатились…
Это совсем взбесило начальника.
— Ты сочинил?
— Что ты, таварищ Скочков! — перепугался Киндя. — Я такой частушки не слыхивал.
— А кто пел, когда в дороге плясали? Играл счетовод Зырин, а ты выпевал!
— Не знаю, таварищ Скочков, ничего не помню. — Киндя от страха начал заикаться. — Откуды мне чево знать? Частушки-ти поют у нас все поголовно, и робята, и девки. Большие и маленькие…
Плясал ты в день Петра и Павла? Когда Рогова на суд вызвали? — Скачков назвал деревню. — Гляди у меня, допляшешься! Вон, петух пел, пел да попал в суп!
— Не помню, таварищ Скочков, ничего не помню…
— Вишь, как у тебя память отшибло! Зато у нас память хорошая. Иди, иди, да впредь думай, чего поешь…
Киндя по-заячьи ускочил за лошкаревскую дверь.
В Шибанихе стояла светлая комариная ночь. Коростели неустанно соревновались, кричали у бань в раннем тумане. Читальню Куземкин закрыл на замок, как хлебный амбар. Скачков пошел ночевать к Мите, Микулин отправился к родной матери.
Назавтра в колхозе «Первая пятилетка» намечалось общее собрание. Лыткин бегал среди ночи по всей деревне. Ему было велено под расписку в каждом доме сообщить о собрании. Но все люди, вплоть до Евграфа и единоличницы Самоварихи, давно спали. Лыткин стучал по воротам довольно робко.
* * *— Прохвосты, — про себя ворчала Митысина матерь. — Экую-то баскую наволоцьку испохабили…
Она стелила Скачкову в сеннике, где стоял сундук, из которого Куземкины братаны стибрили наволочку и использовали вместо первомайского флага. Прицепленная на крест, она и сейчас болталась над храмом, хотя и выцвела добела.
Старуха втащила в сенник соломенную постель, приставила к сундуку избяную скамью и две табуретки. Принесла и единственную пуховую подушку, насквозь пропахшую Митькиным потом.
Как бы сейчас пригодилась та новая наволочка! «А лешой с ним, до утра проспит!» — подумала она про уполномоченного, курившего вместе с Митькой на крыльце.
После самовара председатель отвел начальство в этот сенник. Скачков называл такие полутемные мужицкие помещения чуланами. Он не однажды использовал их заместо КПЗ. Никаких простыней, конечно, и духу в чулане не было. Но Скачков давно привык ночевать в поездках в любых условиях. Нужда научит калачи есть. Он снял портупею с ремнем и наганом, уложил их в головах. Затем стянул с пропотелых ног сапоги и командирские галифе, размышляя о завтрашнем общедеревенском собрании. Одеяло тоже воняло столетними деревенскими запахами. Правда, в крохотное окошечко с воли тянуло чистым луговым ароматом. Только дадут ли ему поспать шибановские комары? Они вон какие кусачие, не хуже тутошнего кулачья… С такой мыслью Скачков отключился от собственного тела и до полуночи растворился в небытии. К полночи комары вернули его в здешний мир. Он заткнул окошечко своими же портянками, но комаров летало уже порядочно, и они даже в темноте знали, куда лететь и на какие места садиться.
Скачков матерился во сне. Прятал лицо под вонькое стеганое одеяло и на заре снова заснул. Петух разбудил его с третьей или четвертой попытки.
У Куземкиных не было даже глиняного умывальника (разбили, что ли?), и Митька поливал начальству из медного ковшика:
— Таскать, товарищ Скочков, утиральник висит на гвоздке, на шкапу! Самовар вот-вот скипит!
Скачков хотел было отмолчаться, но больно уж хорош начинался денек. Солнце так и плавилось. Комары исчезли. Где-то за деревней пели женщины, видимо, сенокосницы, уходящие в поле. И Скачков бодро спросил:
— Ты, председатель, когда теперь жениться намерен?
Он знал откуда-то про Митькину неудачу с первой женитьбой.
— Пока, таварищ Скочков, таскать, нет необходимости.
— Ну, ты мне не ври! В твоем возрасте эта необходимость всегда есть. Давай из высланных любую тебе сосватаю!
И захохотал Скачков, а Куземкин испугался и подумал: «У этого духу достанет… Вдруг жениться заставит?» Правда, о женитьбе, после того как сестра вышла замуж в Залесную, Митька и сам подумывал. Только все кандидатки, которых предлагала мать, ему не нравились. Вон Тонька-пигалица, пожалуй бы, ничего, да моряк Васька Пачин Митьку опередил. У них вон уже и пиво сварено, увезут пигалицу в Ленинград… Учительница Марья Александровна подошла бы и по характеру, и баская. Да ведь не пойдет, курва! Не стоит и свататься… Не пойдет.
Полдюжины яиц, сваренных в самоваре на полотенце, черный хлеб с солью и сковородка жареных маслят — вот и весь куземкинский завтрак. Скачков облупил яйцо, второе. Деревянной ложкой хлебнул скользких грибов. Они ему так понравились, что он один, без Митьки, управился со всей сковородкой. (Братана Митька заранее, чтобы не смущал начальство, отправил в ольховскую кузню по какому-то делу.) Старуха угодливо потчевала ночлежника еще и молоком. Скачков вместо горячего чаю хлопнул полкринки. Не знал следователь, что будет с ним дальше после молока и свежих грибов…
Но пока он бодро встал из-под святых, согнал назад складки гимнастерки под широким ремнем и кожаной кобурой. Поглядел на свои карманные, щелкая крышкой:
— Так, значит, пока народ не собрался, идем в контору! Поглядим, что у тебя с гарнцем… Какая есть документация…
Митьку бросило в холодный пот: никакой документации по мельнице и по гарнцевому сбору у него не было. Счетовод Зырин никакой платы с помольщиков не взимал. Мололи зерно бесплатно и кто попало.
С этим (будь он трижды неладен!) гарнцем попался бы Митька как кур в ощип, если б, во-первых, не Игнаха, не заем да силосная кампания (эта тоже будь трижды неладна), во-вторых, если б не Самовариха с ее сивой кобылой, в-третьих, и это был, пожалуй, «решающий фактор», если б не жареные обабки. Грибы-то и спасли Митьку на первых порах и от распеканции и от полного краха.
Впрочем, полного краха так и не избежал председатель колхоза Дмитрий Куземкин, но это случилось уже под вечер.
Утром же, когда еще и оводы не летали, а над Шибанихой в бездонном голубом небе не обозначилось еще ни одного облачка, в конторе, то бишь в доме Евграфа Миронова, собралось всего три человека: «кульер» Миша Лыткин, колхозник Кеша Фотиев и единоличница Самовариха. Трое сидели на лавке у самой двери. Начальство, тоже трое, не считая Скачкова, разместилось спереди в красном углу. Сопронов, Куземкин и Зырин. Скачков запретил курить на собрании, и курильщики поочереди шмыгали на улицу. Кеша Фотиев обратился к Игнахе:
— А помнишь, Павлович, как в ковхоз-то поступали? Ведь мы товды все вопросы решили на свежем воздухе!
Сопронов отмолчался, а председатель Куземкин вопросительно поглядел на Скачкова. Тот хмуро кивнул. Начали выставлять столы, скамейки, лавки и табуретки прямо на улицу. Сделали несколько лавок из досок и чурбаков, и все семеро разместились в прежнем порядке. Ни одного человека на собрании не прибавилось.
— В такой ведреный день никто и не придет, — заговорил было Володя Зырин и тут же осекся под ястребиным взглядом Скачкова.
— То есть как это не придут?
— Да так… Сено, вишь, хорошо сохнет.
Самовариха ерзала на скамье:
— Игнатей да Павлович, и у меня сено-то со вчерашнего на валах. Отпустил бы меня-то…
— Вызывал не я, не мне тебя и отпускать! — вызывающе молвил Сопронов.
Скачков понял намек и громогласно заявил:
— Вызывал я! Хочу тебя, гражданка, спросить. Почему в артель не вступаешь?
Самовариха поправила холщовый передник:
— Так ведь, батюшко, говорили, што ежели желанье есть, дак вступай, а не хошь, дак как хошь. Али новое постановленье вышло?
— Вышло, вышло! — включился Митька. — Не будешь вступать, полосы у тебя обрежем! Поскольку посередке общественного.
— Ну, дак ведь уж чево и сделаешь…
— А чем будешь корову с кобылой потчевать? — вскипел Митька, но затих под тяжелым скачковским взором.
— Правильно говорит товарищ председатель! Обрежем… И сено нынешнее конфискуем. И тебя как единоличницу государство жалеть не станет! Учтите это на первый случай. Можете идти! На собрании вам сидеть не положено. Нельзя!
— Это как, батюшко, нельзя? Льзя. Сроду такого не было, чтобы на общем сходе да нельзя…
— А ты иди и не обсуждай! — сказал Кеша Фотиев. — Людям виднее.
— Да где люди-ти? — заругалась Самовариха. — Ты, што ли, Осикретушко? Никово и народу нет…
Она и рада была, что единоличнице на собрании сидеть не положено, но еще долго не уходила из мироновского заулка.
Народу и впрямь никого. Стремительные стрижи со свистом летали над пустыми скамейками. К полудню даже сморенные жарой петухи перестали петь по Шибанихе. Скачков начал терять терпение:
— Под твою ответственность! — приказал он Куземкину. — Чтобы через два часа народ был!