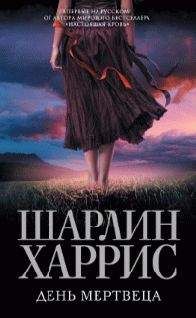Уильям Голдинг - Пирамида
Эви повернулась и ринулась сквозь заросли к краю откоса, будто жаждала глотнуть воздуха. Я двинулся за ней, глупо стараясь производить как можно меньше шума. Я прочистил горло и шепнул:
– По-твоему, у тебя будет?..
Она раздраженно дернулась, с ненужной яростью махнула по горизонтальным складкам.
– Почем я знаю?
– Я думал...
– Придется, значит, тебе погодить и посмотреть, как и мне, а?
И глянула на меня с этой своей неприятной кривой ухмылкой.
– Думал, можно одни пирожки да пышки без шишек поиметь?
Я смотрел на нее, стиснув зубы и ненавидя весь женский пол. Словно прочитав мои мысли, она буркнула:
– Мужиков – ненавижу!
Мутный, медный звон взлетел с долины. Мы оба посмотрели туда. Сержант Бабакумб достиг своей второй остановки. Я даже различил его между стволами ольхи – крошечное красно-синее пятнышко на гребне Старого моста. Эви отвела от него глаза. Она стояла против меня, несколько сдвинутая к моему правому боку. Сложив под грудями руки, раскорячив ноги, уронив голову. Никакая не местная достопримечательность. Просто прачка. Очень медленно она шарила взглядом по городу, от церкви до моста, от Бакалейной до самых лесов. Когда наконец она заговорила, это был грубый голос Бакалейного тупика, голос оборвышей, хриплый, злой:
– И город этот весь ненавижу – ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Я глянул вниз, мимо темной ступенчатости кроличьего садка, мимо зеленого склона – на город. Осмотрел высокий забор у нас на задах, наш лужок, окно ванной. Глянул поверх нашей крыши на дом мисс Долиш, послушал будничный, деловитый автомобильный рожок. Там выяснится вся глубина моего преступления. Я отпрянул за стволы ольхи, Эви с усмешкой на меня оглянулась:
– Чего боишься. Никто тебя не узнает аж с такой дали.
– Эви. Что же нам делать?
– А чего тут сделаешь.
– Может, ты...
Я имел весьма смутное представление о вовлеченных биологических факторах и совершенно не знал, как тут быть. Я грустно присвистнул и отвел с глаз волосы.
– Когда ты будешь знать?
– В понедельник, может, во вторник.
Она отвернулась от города и стала продираться к тропе. Я пошел за нею. Мы оба молчали. Вечер был светлый, еще тепло. Я глядел на ее спину, такую узкую, беззащитную, такие слабые голые руки, и впервые, кажется, понял, какой это ужас – быть девушкой.
– Эви...
Она остановилась, не оглядываясь.
– Не горюй. Может, все еще и обойдется.
Она как-то странно всхлипнула и пустилась бегом по тропе. Я шел медленней, раздумывая, как мне быть. Когда я свернул с тропы на Бакалейную, Эви ушла далеко вперед. И снова плыла, сдержанно, уверенно.
Я шел домой, пронзенный этим видом, сам не свой от невыносимых опасений. Я с ужасом вспомнил про Оксфорд. Если – если – если у нее будет ребенок – прости-прощай, Оксфорд! Какие пойдут разговоры! В восемнадцать лет бросить учебу из-за женитьбы. Пришлось. Иначе – семь фунтов в неделю, алименты. Про эти семь фунтов я знал. Мы щегольски запускали их в разговор, как месячные, как девять месяцев и целый словарь подобных понятий.
– Может, все еще и обойдется...
Потом меня как громом поразила мысль о родителях. Папа, такой добрый, медленный, такой серьезный папа, мама, хоть она, конечно, штучка, но так меня любит, так гордится мной... Это их убьет. Стать родственниками, пусть даже свойственниками, сержанта Бабакумба! Их общественное положение, столь хрупко уравновешенное, столь тонко блюстимое, полетит из-за меня в тартарары! Я поволоку их вниз, вниз, вниз, по тем крошечным ступенькам, по которым так трудно карабкаться, а сверзиться так легко. Да, я их убью.
Я пытался незаметно юркнуть наверх, но не тут-то было.
– Оливер! Это ты, детка?
– Я, мама.
– Скорей иди ужинать.
Я вошел в столовую. Они оба там сидели. Я оглядел холодную свинину. Я забыл про еду, есть мне совершенно не хотелось.
– Можно я не буду?
– Глупости! – Мама сверкнула очками. – Ты же растешь! Садись-садись, будь умницей. К тому же папочка хотел тебе что-то сказать.
Я покорно сел и уткнулся взглядом в холодную свинину у себя на тарелке.
– Чего же ты дожидаешься, папочка? Скажи ему.
Папа завершал пережевывание. Глаза у него были задумчивые, нежно ходили ходуном вверх-вниз моржовые седые усы. Потом он медленно повернул ко мне свою лысую голову.
– Это по поводу пианино, Олли.
– Я же просил прощенья уже.
– Хватит об этом! – Мама весело рассмеялась. – Все прощено и забыто. Ты слушай!
– Мы вот подумали. Чинить его будет долгое дело. Пока клей застынет и прочее. А с этой своей рукой ты еще несколько недель не сможешь к нему подойти, так я полагаю.
– Не тяни, папочка! Вечно ты тянешь!
– Ну вот, а мы тебе пока не сделали подарка, достойного твоих упорных трудов. И мы решили – мама и я: мы отправим пианино в Барчестер, и там его подновят. Одним махом – двух зайцев. Конечно, встает вопрос денег – правда, мама?
– Он всегда встает – деньги есть деньги!
– Но я все прикинул и думаю, мы...
– А если рука у тебя раньше заживет, ты всегда сможешь играть на скрипке, Оливер, ты же так дивно играл, пока не помешался на своем пианино!
– И когда ты приедешь из Оксфорда на каникулы, у тебя будет настоящий инструмент.
Он повернулся к своей тарелке и снова принялся за еду.
– Конечно, – сказала мама, – ты сам понимаешь, оно не превратится в концертный рояль!
– Но лучше оно сделается, – сказал папа. – Там много чего могут. Вряд ли станут делать деревянную раму. Дерево всегда портится. Не знаю, кому оно нужно.
– Может, даже клавиши отбелят.
– Дерево всегда портится. Это из-за климата.
– И подсвечники нам не нужны. Пусть их снимут.
– Металл для звука лучше. У нас металл.
– Ну чего ты, детка? Ну-ну, перестань! Все ведь прощено и забыто!
– Успокойся, старина!
– Это наследственное, знаешь, папочка.
– Покажи-ка нам язык, старина.
– Не надо его дразнить. Скушай свининки, Оливер. Это тебе полезно.
Папа тяжко поднялся и пошлепал в аптеку.
– Ну чего ты, ревушка-коровушка, – сказала мама ласково. – Я же все понимаю, детка. Расти трудно – даже и мальчику. Это наследственное. Характер. Скушай, скушай свининки, детка, тебе сразу полегчает. Знаешь, я помню... Ты не поверишь, Олли... Мы так тобой гордимся, детка, но не можем же мы без конца тебе про это твердить. Вот горчичка.
Папа молча вернулся и поставил возле моей тарелки рюмочку. Опять со слабительным.
* * *Кое-как тянулись дни. Миссис Бабакумб по-прежнему одаряла меня своим косым кивком с любого расстояния, вплоть до ста метров. Эви уже не ходила патрулируемой дорогой. Я слонялся по Бакалейной, и надежда моя таяла. Иногда я слышал, как она стучит на машинке в приемной, иногда видел, как она пробегает с работы домой, – и все. Эви меня избегала. Настал понедельник, вторник, среда – она не появлялась на моем горизонте. Мой ужас перешел в стадию непрестанной тревоги. В снах фигурировал новый кошмар, повторяясь из ночи в ночь. Будто я иду по Стилборну, но приговоренный к смерти. И родители тут же, все знакомые тут же, и все согласны со смертным приговором, ибо моя вина, хоть она в сновиденье не проясняется, – непростительна. Просыпался я с радостью, что это был сон. А потом вспоминал Эви.
Через неделю я снова увидел ее, но не смог с ней поговорить. Я был в ванной и оттуда увидел Эви с тощим партнером доктора Юэна – доктором Джонсом, они ходили взад-вперед по большей из двух юэновских лужаек. Я опасливо пронзил ее взглядом, будто рентгеновским лучом. Но ничего особенного не заметил. Точно такая же, ни на йоту не изменилась. Ножки переступают ниже колен, буйно подрагивают мохнатые ресницы, рот открыт, на губах загадочная усмешка. Я ощутил разом облегченье и ярость. Конечно, девушка в таком положении – если она в таком положении... Но тощий доктор Джонс вел себя при этом странно. Сжимал руки за своей хлипкой спиной. Вертел коленками, поглядывал искоса и хихикал. Ничуть на доктора не похож. Просто старый дурак. Как пить дать, лет сорока, не меньше.
Потом я сообразил, что он, однако же, именно доктор. А известно, зачем ходят девушки к докторам. Я провожал исчезавшую в доме счастливую парочку, как каких-то чудищ. Ясно было одно. Мне необходимо ее увидеть. А у меня не было ровно никакого предлога, чтоб пройти в приемную. Поскольку я не мог предъявить таких явственных признаков недомогания, как, скажем, сломанная рука или сыпь, любое мое посягательство на медицинскую помощь папа встретит новой дозой слабительного. Или, учитывая блестящий успех предыдущих двух доз, это будет, возможно, противопоносное средство. Даже моя левая рука зажила и обрела прежнее свое проворство, будто раскокать панель было для нее просто эксцентрическое фортиссимо, просто упражненье такое. В тоске и печали я проанализировал свое состояние и заключил, что абсолютно здоров. Тут не могло быть сомнений. Вдобавок я питал благоговение к докторам, особенно удивительное при таком близком соседстве. Я безотчетно опасался, как бы доктор Юэн, внимательно меня осмотрев, авторитетно не объявил, что я жду ребенка. Но мне надо было ее видеть – и я решился. Я сбегал к себе, схватил с полки книжку, сбежал вниз и прошел прямо в аптеку. Папа разглядывал сквозь свои толстые стекла рецепт.