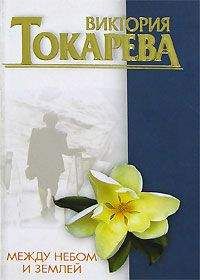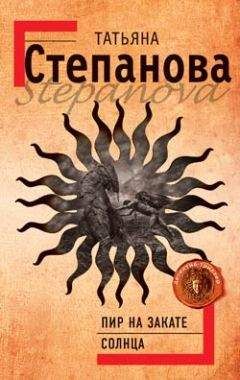Олег Зайончковский - Сергеев и городок
— Поучи дедушку кашлять!
Как среди деревьев дуб распускается последним, так и Степаныч едва ли не последним в цеху запускал свой станок. Но уже когда приступал он к работе, ничто не могло его отвлечь, разве обесточка завода. Рабочее место и инструмент свой Баулин содержал в исключительном порядке. Сама его железная тумбочка говорила за себя: всегда аккуратно выкрашенная, снабженная большим висячим замком. Дверца ее изнутри была оклеена не женскими задницами, а таблицами допусков и посадок. Станок Степаныча, такой же немолодой, как его хозяин, не знал чужой руки и никогда не ломался. Баулин не подпускал к нему ни сменщиков, ни наладчиков, и все в цеху знали: не хочешь скандала — не подходи к баулинскому станку.
За хороший труд и выслугу лет имел Степаныч орден — «Знак почета». Не раз профком награждал его грамотами и путевками. Но... будь ты хоть трижды орденоносцем, хоть членом парткома, не стоит забывать, что ходишь под Богом. В подтверждение этой мудрости, однажды и с Баулиным случилась оказия.
Работал он как обычно: творил какую-то замысловатую деталь. Вдруг в проходе между станками показалась Томочка-экономистка, выбранная недавно председателем цехкома. Она пробиралась, переступая туфельками через лежащие на полу заготовки и боязливо сторонясь гудящих машин. Рабочие весело посвистывали ей вслед, и только один Баулин не обращал на Тому внимания, хотя направлялась она именно к нему.
— Петр Степаныч! — голос ее за шумом станков показался писком.
Он не обернулся, а лишь махнул рукой: обожди, мол. Дамочка еще постояла и, набрав воздуха, опять закричала:
— Петр Степаныч, пожалуйста!
Баулин досадливо крутнул головой и выключил станок. «Концами» он не спеша вытер руки и, сдвинув очки на нос, строго поверх посмотрел на Тому.
— Ну? — недовольно буркнул он.
Под мышкой цехкомша зажимала папочку.
— Грамоту принесла? Давай...
— Нет, Петр Степаныч, не грамоту... — она оглянулась и понизила голос: — Тут неудобно... Бумага на вас... Вы поднимитесь, пожалуйста, в контору.
— Что еще за бумага? — посуровев, переспросил Баулин, но, покосившись на рабочих, быстро пообещал: — Ладно, приду.
Спустя полчаса он поднялся в ее кабинет. Вид у него был сердитый, и, не дав Томочке открыть рта, Степаныч с порога заругался:
— Вам что, ёшь вашу, делать нечего?! Бумажка, поди, прошлогодняя из вытрезвителя... Порвали б, и дело с концом!
Но цехкомша, слегка порозовев, возразила:
— Нет, Петр Степаныч, не из вытрезвителя... Вы сами почитайте...
И она, раскрыв свою папочку, подала ему несвежий тетрадный листок, отмеченный, однако, каким-то входящим номером. Степаныч, нацепив очки, принялся разбирать корявые строки. Писалась бумага, наверное, с не меньшим трудом, чем прочитывалась:
«Мы жители деревни бывшая Мутовки ныне относимся к горсовету Козлова М. М. и Курипанова М. К
ЗАЯВЛЯЕМ
Оградите молодую семью. Николаева Анна по улице 2-я Мутовская дом 3 пользуется что муж проводник развела притон. Ваш коммунист Баулин несмотря что на Городской Доске Почета ходит к этой Аньке. К ней пососедски пришли сказать что у ней корова съела нам капусту. А он сидит в трусах и мне сказал пошла вон. Примите немедленные меры к таким которые позорят Доску Почета а Витька у ней слабосильный и сам поучить не может».
Баулин побагровел и гневно засопел. Томочка смотрела испуганными глазами.
— Из парткома переслали, — сообщила она почти шепотом. — Говорят; разберите на профсоюзе...
Степаныч, удерживая злость, что-то соображал... Наконец до него дошло, и он взорвался;
Что они там уху ели?! Я им разберу, ёшь иху... И ты тоже хороша, «Тома из цехкома»... навыбирали вас!
Она чуть не заплакала;
— Я-то чем виновата?
— На какой это я Доске висю... вишу, по-твоему?
— Как, на какой — на нашей...
— От дура! То-то, что на нашей! А здесь написано: на городской! Ты читать умеешь? — он бросил бумажку на стол.
— Там же фамилия стоит: Баулин...
— Я что — один в городе Баулин? У нас Баулиных пол-улицы!
Действительно, в том году его не представили на городскую Доску, потому что там и так висели двое Баулиных — пропитчик из первого цеха и директор техникума. Степаныч велел Томочке впредь думать правильным местом и гордо покинул кабинетик, оставив цехкомшу одну, обескураженную и недоумевающую. Следствия проводить не стали, и мутовское заявление дальнейшего хода не имело...
Однако происшествие получило неожиданное продолжение. Неизвестно, каким образом, история с «заявой» добралась до ушей баулинской жены, Дарьи Гавриловны. Она не дослушала объяснения, на какой Доске висит ее супруг, а сразу избила его, чем пришлось под руку, именно — половой тряпкой. Тряпка оставляла на Степанычевой лысине грязные следы, а он только бормотал: «Даша... Даша...» — и тщетно прикрывался руками. Задав перцу Степанычу, Дарья Гавриловна не успокоилась и на следующее утро совершила карательную экспедицию в Мутовки. Найдя Аньку Николаеву в собственном доме, она сделала то, что не получалось у слабосильного Витьки: схватив Аньку за волосы, Дарья крепко била ее мордой о кухонный стол. Гавриловна хотела переколотить всю посуду, но Анька, пуская из носу кровавые пузыри, так убедительно открещивалась и верещала, что знать не знает ейного мужа, что кухня уцелела. Отдышавшись, бабы помирились и, уже вдвоем наведавшись к клеветнице Машке Козловой, от души ее отметелили, чтобы у нее вовек отпала охота к подметному творчеству. Соавторшу ее, Курипанову, не нашли (ее счастье!), потому что она, заслышав соседкины вопли, где-то спряталась и отсиделась.
Историю эту Сергееву рассказал в курилке сам Петр Степаныч. Закончил он ее печальным вздохом и словами:
— Вот, брат, какой вышел анекдот...
Сергеев помолчал, затянулся и, скосив глаза на зашкворчавшую сигарету, заметил:
— Но ведь дыма без огня не бывает... а, Степаныч?
— В каком смысле?
— Ну... признайся — небось, и правда ходил к этой Аньке?
— Ну и что? — удивился Баулин. — А кто к ней не ходил? Не на всех же кляузы строчат... Вон, Томочка наша у начальника со стола не слезает, и что? Мы ж не станем на них писать!
— Нет, конечно. На своих, как можно?
— Я и говорю... В коллективе все по-людски, а там... хоть не ходи за проходную, — и Баулин потер многострадальную лысину.
Переезд
Вечерело медленно и незаметно, безо всяких там зорь и закатов — у нас так бывает. Как в кино — механик убирает диафрагму: убирает, убирает, и все — до завтра. Вуаль, муар... как это называется? Словом, на городок нисходили сумерки. Дали становились неясными, расплывались, будто зрители, расчувствовавшись, прослезились к концу сеанса.
Финальную сцену дня и впрямь наблюдало у переезда довольно много людей: водители скопившихся автомашин, их пассажиры и, конечно, сам машинист маневрового тепловоза, второй час уже загораживавшего дорогу. Высунувшись по пояс из кабины и мужественно нахмурясь, машинист напряженно вглядывался куда-то по ходу состава, словно вел его на большой скорости. Наконец, получив таинственный знак, он скрывался в кабине; тепловоз давал энергичный свисток, трогался, и прицепленные к нему три вагона принимались возбужденно лязгать. Шоферы бросались к машинам; вспыхивали фары, дорога окутывалась дымами заговоривших моторов... Увы — шлагбаум не хотел открываться, и через минуту из леса показывались знакомые вагончики, толкаемые все тем же проклятым тепловозом; машинист, не меняя мужественной осанки, смотрел теперь в обратную сторону... Канитель эта началась еще засветло, а сейчас уже и машинист, и тепловоз его были почти неразличимы в густых сумерках.
Городок привык к своему переезду, но неудобства от него нельзя было не замечать. Переезд служил всегдашним поводом для местного злословия. В самом деле: самосвалам приходилось вываливать раствор, чтобы не «закозлился» в кузове; «Скорая помощь» часто бывала совсем не «скорой», а иногда уже и не «помощью». Даже похоронные процессии попадали из-за переезда в нелепое положение: скорбящие от нечего делать разбредались по обочинам, а покойники оставались одни, и хоть им-то спешить было уже некуда, лежали, казалось, с выраженьем скуки. Конечно, пешие жители и беззаконные мотоциклисты пересекали «железку» когда хотели, на свой риск, однако все же городок платил немалую ежедневную дань переезду, а стало быть, каждому, кого проносили мимо скорые и дальние поезда.
Сидя в остывающем автобусе, Никишин изнывал не столько от ожидания, сколько от неумолчного трепа своего соседа. «Вот повезло... — с тоской думал Василич. — Навязался, перец...» Фамилия «перца» была Зачёс; когда-то они с Никишиным вместе работали, но уже лет двадцать не попадались друг другу на глаза. Теперь Зачёс восполнял пробел в ники-шинских знаниях об его, Зачесовых, обстоятельствах. Изо рта его дурно пахло, и вонь эта гармонировала сего речами: «Сеструха — сука... невестка — блядь... смерти моей ждут...» — доносилось до Василича. Он отвернулся к окну, но Зачёс, навалившись, приник и продолжал смердеть ему в лицо: «Ждут, чтобы я дом им подписал... А вот им! Что они вложили?» — «Тебе-то на том свете дом не нужен будет... — пробормотал Никишин.— Пусти-ка, я выйду...» Зачёс с сожалением его выпустил. Качнув автобус, грузный Василич выбрался на воздух. Беззвездное небо совсем уже погасло. Шофера, собравшись в кучку, что-то, смеясь, травили и даже не взглядывали в сторону переезда. «Сколько же еще простоим? — с досадой прикинул Никишин. — Нет, надо домой возвращаться, все равно Катьку уже спать положили...» Он постоял еще немного, потом сплюнул под ноги и побрел восвояси.