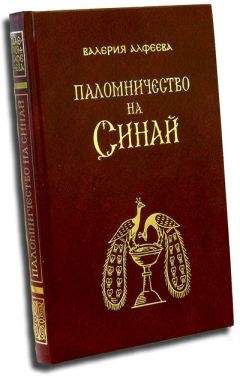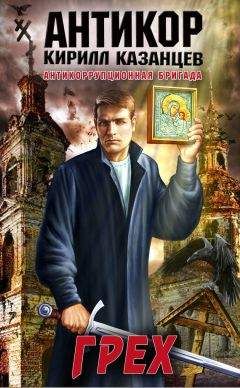Валерия Алфеева - Джвари
Утром я возвращаюсь из храма в келью, еще наполненная богослужением. Тропинка ведет между деревьями по склону холма над монастырским двором. Мимо колокольни с тремя позеленевшими колоколами. Мимо еще одного, едва приметного родничка, из которого вода стекает в небольшой бассейн с лягушками, по ночам оглашающими двор.
Нежные красноватые облака над куполом Джвари пронизаны светом. И светом сквозят ветки сосны над крышей. Храм развернут ко мне фасадом, и каждый раз словно заново я вижу купол, похожий на полураскрытый зонтик, и круглый барабан под ним с двенадцатью оконными проемами. Если встать прямо напротив храма, два средних окна совместятся и сквозь барабан ударит солнечный луч. Окна празднично обведены рельефом из арок, между ними сохранился древний орнамент. Весь храм облицован светлой песчаниковой плиткой, и у каждой свой рисунок породы и свой оттенок. А все это вместе свободно, совершенно, живо, и все это я уже люблю.
Я так люблю Джвари, эти горы, ущелья вокруг, и свою келью, и обитателей монастыря, и Митю, что мне хочется благодарить Бога за все и молиться.
У меня еще никогда не было дней, так наполненных светом, благодарностью и молитвой.
Однажды мы с Митей и Арчилом ходили в Тбилиси. Арчила игумен отправил в командировку — учиться печь просфоры; до сих пор за ними посылали каждый раз под воскресенье, перед литургией, а теперь решили, что проще печь самим. А мы хотели принести свои вещи от родственников Давида. Когда мы с ним шли в Джвари и он говорил, что надежды остаться там нет, я все-таки несла в сумке кое-что необходимое на первые дни. Мы обошлись этим. А теперь, обосновавшись в келье, мы могли принести остальное.
Уходили впятером — впереди бежали Мурия и Бринька, провожающие всех из монастыря. Поднимались по ложам пересохших ручьев, по которым несколько дней назад спускались. Собаки взбегали метров на десять выше и ждали нас, свесив языки, наверно, недоумевали, почему мы идем так медленно, если можно бежать быстро.
— Вы их попросите, пусть завтра нас встретят, чтобы мы не заблудились, — предлагал Митя Арчилу.
— Надо идти с Иисусовой молитвой, и не заблудитесь, — отвечал Арчил.
Остановились отдохнуть на знакомой седловине, распугав серых ящериц. Змеи тоже заползают сюда греться на солнце, и я решила, что лучше тут не задерживаться. Но Арчил сказал, что и змей не надо бояться, если ты вышел из монастыря по благословению игумена и перекрестил перед собой дорогу.
Без подрясника, в черной шерстяной рубашке, несмотря на жару, и черных брюках, Арчил казался бы незащищенным — маленький, узкоплечий, большеголовый, — если бы не эта ясность его веры, как будто делавшая его выше и сильней. Все нам с ним удавалось, идти было легко. И на шоссе сразу догнала маршрутная машина. Мы втроем уселись на заднее сиденье. А собаки долго бежали за нами — не затем, чтобы догнать, но до последних сил проявляя ревность.
Потом нас обдавало ревом машин на мосту, выхлопными газами, говором толпы, жаром расплавленного асфальта: после Джвари город казался непереносимым для обитания.
Тетя Додо раздвигала стол на балконе, расставляла на нем бутылки с зеленой мятной водой, лобио, салаты и зелень. Я видела ее через раскрытую на балконе дверь.
Мы сидели с Тамарой, женой Давида, и говорили на интересную для обеих тему — о нем. Не без тайной гордости она рассказывала, что он окончил геологический институт, был ведущим специалистом, прожигателем жизни и светским львом. И вдруг, представьте себе, ушел чернорабочим на ремонт собора, потом вообще в монастырь. Тогда она считала, что ее жизнь загубил какой-то игумен, мечтала вырвать ему бороду по волоску.
Невысокая, с легкой фигурой, светловолосая и кареглазая эстонка с милым лицом, наполовину прикрытым модными круглыми очками с голубоватыми стеклами, она выглядела слишком молодой для матери троих детей, слегка аффектировала свои кровожадные намерения, но и смягчала их юмором. Она равно гордилась тем, что Давид был светским львом, и тем, что он едва не стал монахом.
А я знала, что с молодости он глубоко переживал мысль о смерти. Чаще всего люди стараются не помнить о ней, сделать вид, что ее нет и не будет, и так снять все вопросы. Для них тень вечной ночи не обесцвечивает временные земные радости, хотя мне трудно представить себе радости, которыми можно так беспробудно насыщаться. Но Давид относился к меньшинству, для которого бытие требует оправдания высшим смыслом. И его встреча с игуменом Михаилом не была случайной, как ничто не случайно.
Здесь, на нейтральной полосе, у тети Додо, Тамара впервые увидела игумена: он с Давидом приехал из Джвари, а она прибежала, «как разъяренная львица».
— Мне раньше по глупости казалось, что верующими становятся от какой-нибудь недостаточности. Смотрю, отец Михаил ходит прямо, рослый, сильный. Умный… Вижу, что он все про меня знает. Я даже злилась, что он меня насквозь видит. И говорит спокойно, мягко: «Давид будет хорошим монахом. Но сможете ли вы одна вырастить хороших детей? Может быть, вы погорячились? Подумайте хорошо…» Он мог бы его постричь, и конец, был бы ему хороший монах. А я сижу робко, из львицы превратилась в завороженного мышонка… Еще не могу поверить, что это он мне мужа обратно привел.
— Ну, скажем, я сам пришел, — вмешивается отец Давид и предлагает нам перейти к столу.
Вернулся с работы младший брат Давида, Георгий, и наше застолье затянулось до вечера.
Удивительный мир окружал нас в этой семье. Георгий — родной брат Давида, но сын тети Додо, что оказалось возможным благодаря необычайной любви, связывающей родственников. Двадцать восемь лет назад мать Давида ждала третьего ребенка. А ее кроткая сестра Додо с мужем были бездетны, и Додо пролила много слез, прося у Бога сына. Теперь стало понятно, что сын у нее уже не родится. Отец и мать Давида решили возместить жестокость природы своим милосердием и предназначили новорожденного в подарок сестре. Так наполнилась чаша семейной жизни тети Додо. А когда Георгий подрос и узнал о своем происхождении, он тоже не был им опечален — во всяком случае так он рассказывал эту историю мне. Наоборот, он даже считал, что ему особенно повезло: у каждого его приятеля по одной матери, а у него — две, и обе его очень любят. Одна потому, что получила его в нечаянный и поздний дар; другая потому, что оторвала от себя в жертве любви.
И Давид приходит к тете и брату как домой, приводит друзей обедать. Так он и нас привел в первый наш день в Грузии.
Мы познакомились в кафедральном соборе: здесь он начал чернорабочим, здесь его рукоположили и оставили служить. А мы знали только его имя через несколько разрозненных звеньев знакомств. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге. Потом началась и кончилась вечерня. Отец Давид, отслужив, вышел к нам в подряснике и с крестом: «Ну, пойдемте». Мы не стали спрашивать куда. В нашей небольшой религиозной биографии Бог выслал нам навстречу только лучших из своих служителей — по великой милости Своей. И мы привыкли, что священника надо слушаться, тогда все выйдет хорошо. Так мы пришли к тете Додо, а потом приходили каждый день, пока не отбыли в Джвари.
Грузия началась для нас как чудо и праздник. И он еще длился.
Тетя Додо показала нам, что такое аджапсандали. Мы ели это пряное блюдо и постные пирожки и после знойного перехода выпили по шесть чашек чая с вишневым вареньем. А тетя Додо только улыбалась, приносила, уносила, наливала и с тихой радостью предлагала налить еще.
Нам было хорошо вместе в этот день, как и раньше. И мы говорили о вере, о священстве. Отец Давид рассказывал, что он и представить не мог, как это даже физически тяжело — в неделю дежурства по храму весь день крестить, венчать, отпевать, какой полной отдачи сил требует эта работа, но и какой мир нисходит после нее.
А Георгий, киновед и кинокритик, невольно сравнивая свои занятия с этим, спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. И если бы я была мужчиной и у меня появилась надежда принять сан, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись. Потому что любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии.
— И от человека до священника — как от земли до неба, — заключила я полушутя.
— От человека — до настоящего христианина, — поправил отец Давид. Настоящим христианином стать очень трудно, это подвижничество и жертва.
А рано утром мы с Митей вдвоем шли по зеленому туннелю из старых вязов, и влажный настил прошлогодних листьев делал наши шаги бесшумными. Изредка вскрикивали, переговаривались птицы, солнце бросало сквозь листву дрожащие пятна света. Мы вышли по благословению отца Давида и перекрестили дорогу. Нам было хорошо идти, и мы пропустили поворот, потерялись и оказались в конце концов на другой от монастыря стороне ущелья. Но мы верили, ЧТО Бог выведет, и Он нас вывел.