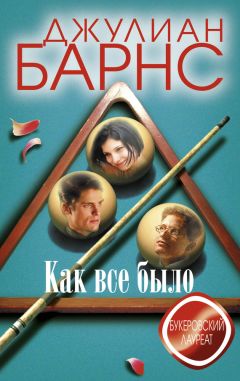Джулиан Барнс - Шум времени
Вся эта мрачная комедия заслоняла один кардинальный вопрос, который Пушкин вложил в уста Моцарта:
А гений и злодейство – Две вещи несовместные. Не правда ль?
Можно согласиться: да, правда. Вагнер был низок душой, а этого не скроешь. Ярый антисемит, он проникся расовой непримиримостью во всех ее видах. А потому при всем пафосе и великолепии своей музыки не может считаться гением.
Почти вся война прошла для них в Куйбышеве. Там было безопасно, а когда к ним присоединилась его мать, которая эвакуировалась из Ленинграда, тревоги немного улеглись. Да и кошки не так скребли душу. Конечно, его, как патриота и члена Союза композиторов, часто вызывали в Москву. Он брал в поезд водку и чесночную колбасу, чтобы хватило на всю поездку. «Нет на свете лучше птицы, чем свиная колбаса», как говорят украинцы. Составы застревали на несколько часов, а то и суток; никто не мог угадать, когда движение поездов прервет внезапная переброска войск или нехватка угля.
Ездил он в мягком вагоне, так было спокойнее, потому что плацкартные вагоны напоминали потенциальные тифозные бараки на колесах. Чтобы не заразиться, он носил на шее и на запястьях дольки чеснока. «Запах отпугивает девушек, – объяснял он, – но в военное время приходится с этим мириться».
Как-то раз возвращался он из Москвы вместе с… нет, сейчас уже не вспомнить. Через двое суток пути состав замедлил ход на каком-то пыльном полустанке. Они открыли окно и высунулись. В глаза ударило рассветное солнце, а в уши – разухабистая песня нищего. С ним, кажется, поделились они колбасой. Или водкой? Или мелочью? Почему в голове сохранились полувоспоминания о том длинном перроне, о том нищем – одном из тысяч? Прозвучала ли там какая-то шутка? Но кто именно ее отпустил? И в чем соль? Нет, уже не вспомнить.
Никак не вспомнить и малопристойную вагонную песню нищего. Вместо нее в голову лезет солдатская песня прошлого века. Мелодии он не знает – только слова, врезавшиеся когда-то в память при беглом просмотре переписки Тургенева:
Матушка Россия Не берет насильно, А все добровольно, Наступя на горло.
Тургенев ему не близок: интеллигентности в избытке, а воображения не хватает. То ли дело Пушкин, Чехов, а в особенности Гоголь. Но даже Тургенев, при всех своих недостатках, впитал в себя традиционный русский пессимизм. Более того, понимал, что быть русским – значит быть пессимистом. А еще считал, что русского как ни скобли – все равно окажется русский. Этого так и не смогли понять Карло-Марло и компания. Они хотели быть инженерами человеческих душ, но, что ни говори, русские люди – не токарные болванки. Их не обрабатывать, а отскабливать впору. Скоблить, скоблить, скоблить, чтобы счистить всю эту старославянщину и раскрасить по-новому, ярко, по-советски. Но не тут-то было: только начнешь кистью водить, а краска уже осыпается.
Быть русским человеком – значит быть пессимистом; быть советским человеком – значит быть оптимистом. Поэтому выражение «Советская Россия» внутренне противоречиво. Власть этого никогда не понимала. По ее мнению, достаточно истребить определенное количество граждан, а остальных посадить на диету из пропаганды и террора, чтобы оптимизм возник сам собой. Где логика? И точно так же Власть ему внушала – разными способами и словами, через чинуш от музыки и через газетные передовицы, – что ей требуется «оптимистический Шостакович». Очередное терминологическое противоречие.
Вообще говоря, одной из немногих сфер, где оптимизм мирно соседствует с пессимизмом (и более того, их соседство – залог выживания), остается семья. Вот, например, он любит Ниту (оптимизм), но далеко не уверен, что стал ей хорошим мужем (пессимизм). Его гложет тревога, но понятно же, что тревога делает человека эгоистичным и тяжелым в общении. Нита уходит на работу, но стоит ей приехать в институт, как он начинает изводить ее телефонными звонками и допытываться, когда она будет дома. Понятно, что это кого угодно может вывести из себя, но тревога одерживает над ним верх.
Он любит своих детей (оптимизм), но далеко не уверен, что стал им хорошим отцом (пессимизм). Порой возникает ощущение, что любовь к детям у него чрезмерна, даже сродни патологии. Что ж поделаешь: жизнь прожить – не поле перейти.
Галя и Максим приучены говорить правду, соблюдать вежливость. Он всегда прививал им хорошие манеры. С младых ногтей внушал Максиму, что вверх по лестнице следует идти впереди женщины, а спускаясь, пропускать женщину вперед. Когда у них появились велосипеды, он заставил детей выучить правила дорожного движения и придерживаться их даже на безлюдных лесных дорожках: левой рукой показывать левый поворот, правой рукой – правый. В Куйбышеве он следил, чтобы по утрам сын с дочерью делали зарядку. Включал радио, и они втроем выполняли упражнения под задушевные команды диктора Гордеева. «Отлично! Ноги на ширине плеч! Первое упражнение…» И так далее.
Если не считать этой физкультурной родительской обязанности, тело свое он не тренировал; он всего лишь существовал в телесной оболочке. Кто-то из знакомых показал ему гимнастику для интеллигенции. Разбрасываешь по полу коробок спичек, а потом наклоняешься и по одной собираешь. В первый раз ему не хватило терпения: он пригоршнями сгребал спички с пола и кое-как засовывал в коробок. На другой день он повторил попытку, но тут некстати зазвонил телефон, и его срочно куда-то вызвали, так что собирать спички пришлось домработнице.
Нита увлекается альпинизмом и лыжами, а его от ощущения предательского снега под лыжами охватывает неукротимый страх. Жена любит смотреть бокс, а он не выносит зрелища избиения – чуть ли не до смерти – одного человека другим. Не овладел он даже танцами – той формой движения, которая наиболее близка к его профессии. Сочинить польку, задорно сыграть ее на рояле – это пожалуйста, но на танцевальной площадке у него заплетались ноги.
Он любит пасьянсы раскладывать – они успокаивают; в картишки раньше любил перекинуться, если только игра шла на деньги. Не созданный, по причине отсутствия выносливости и координации, для занятий спортом, он тем не менее полюбил судейство. Еще до войны, в Ленинграде, получил удостоверение футбольного арбитра. Во время куйбышевской эвакуации организовывал и судил турниры по волейболу. Торжественно повторял где-то подхваченную английскую фразу: «It is time to play volleyball»[2]. А потом добавлял любимое заверение спортивных комментаторов: «Матч состоится при любой погоде».
Галю и Максима наказывали редко. Любой проступок или обман вызывал у родителей состояние крайней обеспокоенности. Нита хмурилась и укоризненно смотрела на детей, а он начинал беспрерывно курить и метаться по квартире. Эта немая сцена душевных мук обычно сама по себе служила карательной мерой и других не требовала. А кроме того, вся страна сделалась сплошной карательной мерой, так стоило ли раньше времени знакомить ребенка с тем, что он и без того будет наблюдать в избытке всю свою жизнь?
И все же без серьезных провинностей не обходилось. Однажды Максим изобразил падение с велосипеда, сделал вид, что расшибся и потерял сознание, но при виде родительского ужаса тут же вскочил и залился хохотом. В подобных случаях Максиму (отличался, как правило, Максим) говорилось: «Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. У меня к тебе серьезный разговор». Но даже эти простые слова сын воспринимал болезненно. У себя в кабинете он приказывал Максиму в письменном виде изложить суть своей провинности, дать обещание никогда больше так не делать, а внизу расписаться и поставить дату. Если же провинность повторялась, он доставал из ящика стола прошлую объяснительную записку и требовал, чтобы Максим прочел ее вслух. При этом ребенок испытывал такой жгучий стыд, что это наказание словно бы оборачивалось против отца.
С эвакуацией связан и ряд светлых воспоминаний, совсем простых: как он и Галя играли с поросятами и эти щетинистые комочки с сопением норовили выскользнуть из рук; как Максим изображал болгарского полицейского, который завязывает шнурки. На лето семья перебиралась в Иваново, где в бывшей усадьбе на территории Птицеводческого колхоза номер шестьдесят девять располагался эвакуированный Дом композиторов. Не все ли равно, где работать. Здесь, за столом, представляющим собой доску, приколоченную к внутренней стене бывшего курятника, рождалась на свет его Восьмая симфония. Работать он может в любых условиях, среди беспорядка и неудобств. Это просто спасение. Других отвлекают звуки нормальной жизни. Прокофьев злобно гонял Максима и Галю, если дети хоть как-то обнаруживали свое присутствие за стенкой, а вот сам он на шум не реагирует. Единственное, что ему досаждает, – это собачий лай: настырный, истерический, вспарывающий музыку прямо в голове. Поэтому он предпочитает кошек. Кошки нисколько не мешают сочинять музыку.