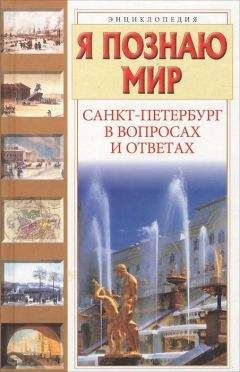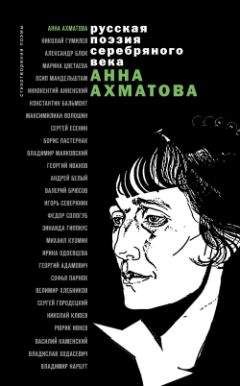Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
Да, дамы его, как ни странно, любили. Даже соперницы его в любви к мужчинам. Ведь здесь же, на Спасской, в проходной тогда еще комнате, начнется, например, едва ли не единственный в истории литературы странный «брак втроем»: Кузмин, Юркун и Арбенина.
Все случится зимой 1921 года. Зимой в жизнь Юркуна и Кузмина войдет «снежная Психея», актриса и художница Ольга Арбенина, та, что была любовью Гумилева и в которую влюбится, приехав в Петроград, Осип Мандельштам. Соперничество двух этих великих поэтов, я уже писал об этом, почти сразу легко, чуть ли не в один вечер, разрешит Юркун. Правда, сразив при этом третьего – Кузмина.
Новый год встречали в Доме литераторов. Тех «литераторов», замечу попутно, кому Кузмин уже дал про себя смешные, а иногда и обидные прозвища. Вяч. Иванова назвал как-то «батюшкой», Блока – «присяжным поэтом из немецкого семейства», Чуковского – «трубочистом», Сологуба – «менялой», Ахматову – «бедной родственницей», а ее соперницу в стихах Радлову – «игуменьей с прошлым». Гумилева и Городецкого – обоих обозвал «дворниками». Причем Гумилев был у него «старший дворник-паспортист, с блямбой», а Городецкий – «младший дворник с метлой»… Кстати, и Чуковский, и Радлова, и сам Гумилев были на том новогоднем вечере. «Посидев дома, отправились в Дом, – записывал в дневнике Кузмин. – Посадили нас к филологам… Юр. (Юркун. – В.Н.) все бегал за Арбениной, вышла там какая-то история с Гумилевым. Я сидел… с Ремизовыми… Еще выпил, а им ничего не досталось. Все там пьяны, пищу всю съели… Юр. все сидел и бог знает что проделывал с Арбениной. Я стоял у печки. Потом настал мрак…»
Арбенина запишет иначе: «У меня было розовое платье… Жестокость в поведении Гумилева была одна – дикая, непонятная… Я помню: мы сидели за столом на эстраде. Соседей не помню. Народу было много. Юра сидел внизу, за другим столом. Закивал мне. Гумилев не велел мне двигаться. Я, кажется, обещала “только поздороваться”. Гумилев… сказал, что возьмет часы и будет ждать. Я сошла вниз – у дверей Юра сунул мне в руки букет альпийских фиалок и схватил за обе руки, держал крепко. Я опустила голову, прямо как на эшафоте. Минуты шли. Потом Юра сказал: “Он ушел”. Я заметалась. Юра сказал: “Пойдем со мной”»…
Она и пойдет. Уйдет к нему от Гумилева навсегда. И, кстати, уже под влиянием Юркуна вновь начнет рисовать. Да так, что не только все репродукции Боттичелли, которые Кузмин вечно развешивал в своих квартирах, окажутся заменены ее «акварелями», но даже сам Станиславский предложит ей потом оформить оперу «Виндзорские кумушки», от чего она, гордая и радостная, «чуть с ума не сойдет»…
«Ревную ли я? – задаст себе вопрос Кузмин, наблюдая за развитием романа между Юркуном и Арбениной. – М. б. и нет, но во всяком случае видеть это мне не особенно приятно». Про Арбенину напишет: «Она милый человек, но гимназистка и баба в конце концов. “И лучшая из змей есть все-таки змея”. Тот же мелкий и поганенький демонизм, что побуждал Оленьку (Судейкину. – В.Н.) отдаваться Князеву на моих же диванах». И будет долго жаловаться листу бумаги: «Сегодня… для меня ужасный день. У Юр., как я и думал, роман с Арбениной, и, кажется, серьезный. Ее неминуемая ссора с Гумом и Манделем (Гумилевым и Мандельштамом. – В.Н.) наложит на Юр. известные обязательства. И потом сплетня, огласка, сожаление обо мне. Это, конечно, пустяки. Только бы душевно и духовно он не отошел». Юркун и не отойдет. Но и Арбенину, которая легкомысленно и простодушно признается, что и «рада была бы побегать на стороне», от себя не отпустит уже, не отпустит до конца – до расстрела…
Словом, так началась эта необычная и яркая любовь: с капризами, жестокостью, дурью, жертвами, радостями, трагедиями и примирениями. Кузмин свыкнется с этой странной любовью. Когда Юра и Ольга будут убегать потом на Охту или на Васильевский остров искать на рынках фарфор, который пытались собирать, Кузмин смеялся им вслед: «Дети побежали на свои помойки…» Грустил, что Юркун мечтал о сыне, которому даже имя придумал – Олег, подшучивал над его страстью к дорогим папиросам и костюмам в клетку «неврастенических цветов». Все было, но главное – была эта «тройная» любовь. И что с того, что по ночам его заедали клопы, что он радовался даже такому подарку, как стекло, положенное на его рабочий стол Юркуном (он восхищался, что в нем красиво отражается небо!). Что через комнату его днем и ночью ходили на кухню соседи, что к телефону в прихожей «выползала» глуховатая пожилая женщина и кричала в трубку под его дверью: «Говорит старуха Черномордик!», а за стеной он слышал порой пение соседских детей, которые, встав в круг, выводили тонкими голосами свою фамилию: «Мы Шпитальники, мы Шпитальники!» Что с того, что его, старейшего русского литератора, не только не позовут на Первый съезд советских писателей, но даже ни разу не упомянут на нем его имя. Что на последний свой вечер в доме Мятлевых (Исаакиевская пл., 9), который чудом состоялся в конце 1920-х годов (люди сидели даже на полу, в конце вечера Кузмина завалили букетами) – он придет, натурально, в дырявом пальто. Что с того?!.. Зато он, как и раньше, был сумасшедше свободным человеком в несвободной уже стране. И мог позволить себе даже такую роскошь, как гордость. Когда в 1926 году он, впервые после революции, встретился со школьным товарищем Юшей Чичериным, уже наркомом иностранных дел, то в дневнике записал: «Юша говорил по-французски. Оптимизм, как у государыни Марии Федоровны, которая была уверена, что можно прожить на 3 рубля в год. “Почему мало печатаюсь, мало пишу”…» На следующий день добавит: «Все удивлены, что я ничего у него не попросил, но я думаю, что так лучше».
Конечно, лучше! Через пять лет после этой встречи однопартийны Чичерина, чекисты, перевернут в этой комнате все и после обыска унесут как раз дневники поэта – душу его. Хорошо хоть, что не начнут потом жечь на кострах его книги, как случится это с книгами гомосексуалистов в 1933 году в Берлине, – их просто изымут из библиотек. Свободных людей, сумасшедше свободных, не терпели ни в одном тоталитарном государстве. Но прежде чем погубить, участливо спрашивали: «Почему мало пишете, мало печатаетесь?» Мудрый поэт уже понял: наступило время, когда можно или писать, или печататься. Он предпочел писать!..
«Он любил жизнь, людей, их суету, праздники и будни, – напишет о нем его современник литератор Басалаев. – Не умел долго сердиться. Ему нравилось ходить в гости. В гостях пить чай, болтать, ахая и сокрушаясь или смеясь и иронизируя… Но никогда не сливался с окружающими. Всегда оставался самим собой, верный своим вкусам и сердцу, влечениям и мыслям».
Незадолго до смерти Кузмин запишет в дневнике, что если люди обычно приходят к вере в Бога к старости, то у него – напротив, «как дело дошло до старости и смерти, так эту веру потерял. Засох и закрылся. Как будто обиделся, что вера не спасает меня от фактической смерти»…