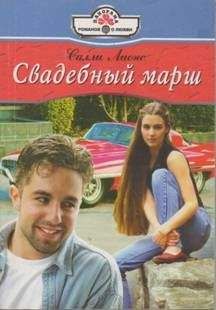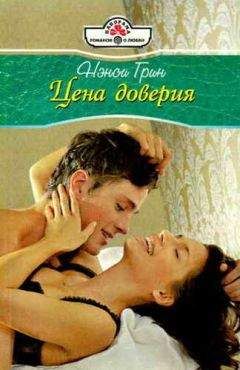Айрис Мердок - Ученик философа
Пар становился гуще, воздух горячее. Дышать становилось труднее, Том задыхался. Он подумал: «Еще минута, и я упаду в обморок. Надо сохранять ясность мысли, не терять сознания». Он повернул на площадке, сбежал вниз еще на несколько ступенек и с силой ударился о бетонную стену, в которой была дверь.
Он машинально толкнул дверь, которая оказалась запертой, потом взбежал обратно на площадку. Он разглядел внизу другую лестницу, едва заметную сквозь пар, но не мог найти ее соединения с местом, где стоял сейчас. Он схватился за перила, перекинул через них ногу, поднял вторую, заскользил и, не в силах сохранять равновесие или удержаться за гладкий мокрый металл, скорее упал, чем спрыгнул, на нижний уровень и свалился на колени. Он прохромал вниз по еще нескольким лестницам и внезапно остановился на ровном бетонном полу.
Том огляделся, пробежал вперед, потом назад. Он стоял в обширном помещении с ровным полом, где неохватные серебристо-золотистые трубы, подобные колоннам, входили гладко и ровно в безупречно охватывающий их бетон. От труб исходил страшный жар, и Том старался их не касаться. Он побегал вокруг, пытаясь найти какую-нибудь галерею, что-нибудь вроде моста или арки, с которой мог бы заглянуть вниз, а может быть, и спуститься вниз, к камням, увидеть, как вода поднимается, сверкая, во мраке. Он пошел в одном направлении и в конце концов уткнулся в бетонную стену, потом повернул назад и уперся в другую, похожую на утес. Перед ним простирался полукруг бетона, из которого не было никакого выхода — ни дальше, ни вниз, ни волшебной двери, обещающей новые тайны, а за спиной ряд труб взмывал ввысь, как огромный орган, вплотную друг к другу, так что между ними и спички не просунешь. Ниже ничего не было. Он был на дне.
Тому понадобилось некоторое время, чтобы убедиться в этом окончательно. От пара и жара у него помутилось в голове, ему трудно было видеть и оценивать пространство, в котором он находился, его размер и форму. Теперь, когда Том стал двигаться медленнее, он с удивлением понял, как неистово сияет все кругом, как ярко светят спрятанные где-то лампы на серебряно-золотые трубы органа и сверкающую паутину лестниц, нависающих теперь над головой. Уверившись, что нет никакого темного проема, ни исходящего паром грота со струей кипятка, ни иного выхода из этого помещения, кроме как по лестницам, по которым он только что спустился, он принялся карабкаться вверх. Потом вернулся, постоял минуту, словно творя молитву, и коснулся мокрого бетонного пола, как ребенок, играющий в «палочку-выручалочку». «Я сделал все, что мог», — сказал он вслух и снова поспешил наверх.
Однако скоро был вынужден остановиться. Он поднялся наверх, миновал место, на которое спрыгнул или свалился, перешел площадку и обнаружил, что лестница кончается очередной (он попробовал ручку) запертой дверью. Отступив, он сообразил, что лестница, на которой он сейчас стоит, не сообщается с той, которую он видит над собой и по которой спустился. На самом деле он спрыгнул там, где две системы лестниц подходили друг к другу ближе всего. Спрыгнуть было легко. Забраться наверх, балансируя на скользком круглом поручне и цепляясь вытянутыми руками за мокрые, ощутимо горячие вертикальные перекладины и стальные ступени над головой, и потом подтянуться — невозможно; да и без всего этого было бы довольно неприятно — стоит промахнуться, и приземлишься на бетонный пол двадцатью пятью футами ниже. Том стоял, тяжело дыша. Ему казалось, что он уже очень давно находится внутри этой странной, гудящей, ярко освещенной шахты. Теперь при вдохе влажный тропический воздух наплывал на него жгучими волнами, обожженные легкие отвергали этот воздух, и Том задыхался. Чувствуя, что его охватывают усталость, безразличие и слабость, он заставил себя дышать медленно. Он подумал: конечно, инженеры надевают одежду, которая их защищает от жара, и респираторы… Он медленно пошел обратно вверх по лестнице к двери, еще раз попытался ее открыть, толкнул плечом, пнул ногой. Дверь была прочная, железная и, как и все остальное вокруг, невыносимо горячая на ощупь. Горячие ступени уже начали жечь ему ноги. До сих пор он чувствовал себя крадущимся непрошеным гостем. А теперь вдруг ощутил себя пленником. Он замолотил в дверь и несколько раз крикнул: «Ау, есть кто?» Эхо голоса слабо отдавалось в липком парном воздухе всей огромной цилиндрической шахты, которая засвистела и завибрировала, как ракета, которая вот-вот взлетит. Том посмотрел вниз, почти ожидая увидеть что-то новое, но в помещении, залитом невыносимо ярким светом, все было точно как раньше. Кажется ему или температура и впрямь поднимается?
Том посмотрел на ближайшую часть верхнего уровня, сочленение, крохотную площадку на повороте лестницы, висящей в воздухе. Она была не прямо над ним, а примерно в двух футах от него по горизонтали, в пяти футах выше головы. Тому нужна была промежуточная опора для ноги, но ничего подобного не находилось, кроме ручки двери гораздо ниже перил площадки, где он стоял. Вряд ли удалось бы устойчиво поставить на перила даже одну ногу. Том подумал: «Если б только у меня с собой что-то было, что-то такое, на что можно встать; хотя в этом нет никакого смысла. Я никогда не смогу встать на эти перила, удерживая равновесие, чтобы ухватиться за лестницу над головой, а даже если получится, я не смогу подтянуться — только повисну на руках и упаду между лестницами. Но если я не выберусь отсюда как можно скорее, я задохнусь. И мне кажется, тут что-то скоро взорвется». Он опять крикнул, но, как ему показалось, совершенно беззвучно. Он механически зашарил по карманам, и рука наткнулась на нож, крепкий, длинный швейцарский перочинный нож с двумя лезвиями, подарок Эммы на Рождество. Том вытащил нож, открыл то лезвие, что подлиннее, и посмотрел на дверь. Ему пришло в голову, что, если получится вогнать лезвие ножа в щель над дверью, с помощью торчащей рукоятки он, во-первых, сможет, ступив предварительно на ручку двери, подняться на поручень и удерживать там равновесие достаточно долго, чтобы ухватиться за вертикальные прутья верхней лестницы; во-вторых, эта рукоятка ножа станет промежуточной ступенькой, по которой можно будет залезть наверх, главное — не слишком долго на нее опираться.
Том всунул нож в щель над дверью. Лезвие вошло плотно, и наружу осталось торчать три дюйма ручки. Том положил руку на круглый поручень. Он был мокрый, горячий и чудовищно скользкий, и, глядя на него, Том видел внизу пропасть. Он пошарил в кармане и нашел большой, чудом оставшийся сухим при этой влажности носовой платок. Вытер им железный поручень. Потом быстро, не осматриваясь больше, протянул правую руку и схватился за ручку ножа, поднял правую ногу и поставил ступню на дверную ручку, пружинисто оттолкнулся левой ладонью от поручня, взлетел вверх, встал на вытертую досуха часть поручня и одновременно вытянул левую руку, чтобы схватиться за металлическую ступень лестницы над головой, а потом быстро перехватился обеими руками за вертикальные прутья прямо над собой. Отсюда, если на секунду опереться правой ногой на нож, можно опять подняться и всунуть левое колено меж прутьями пролета верхней лестницы.
Пока он оценивал расстояние и напрягал тело для прыжка, сверху донесся громкий, отдавшийся эхом лязг, и Том немедленно все понял. Это захлопнулись бронзовые двери наверху. Еще секунда, и погас свет.
Эмма зажег лампы в комнате, где до этого сидел с матерью при мерцающем свете камина.
Был вечер субботы, конец долгого дня. Эмма вернулся в Лондон из Эннистона ранним утренним поездом. Он спустился в метро, собираясь доехать до станции Кингз-Кросс и вернуться к себе. Но мысль о том, что придется сидеть одному в комнате, вдруг показалась ему невыносимой, и он решил доехать до Хитроу и полететь в Брюссель. Радость матери при его нежданном появлении его немного подбодрила.
Комната, где они сейчас сидели, не менялась уже давно, почти со дня смерти отца. Комната была бельгийская, а не английская. Мать Эммы не стремилась создать такой эффект. Часть мебели она получила вместе с квартирой, а другую унаследовала от ныне покойной сестры, которая была замужем за бельгийским архитектором. Может быть, свою роль сыграла еще одна причина. Когда мать Эммы решила жить за границей, она переняла своеобразный старомодный, обывательский стиль, подходящий к этому району Брюсселя, вариацию на тему старых комнат Белфаста, давно исчезнувших и существовавших ныне лишь в ее воображении. Тюлевые, невероятной красоты занавески на высоких окнах пожелтели, бархатные портьеры, обрамлявшие их, были незаметно проедены молью и покрылись пятнами, подкладка их изорвалась. Турецкий ковер истерся и хранил следы ног. Вышитая шаль на рояле, всегда аккуратно возвращаемая в одно и то же положение, выцвела сверху, где на нее падали лучи солнца. Серебряная рамка фотографии, запечатлевшей мягкие черты и кроткий взгляд шестнадцатилетнего Эммы, также стояла на рояле, всегда в одном и том же месте, под одним и тем же углом. Отец Эммы тоже присутствовал. На портрете кисти соученика по Тринити-колледжу он был совсем мальчишкой — в зеленом галстуке, задорный, с озорным взглядом. Эмма не любил этот портрет. На фотографии в комнате матери отец был старше, печальнее, выглядел застенчивым и скромным, с мягкими висячими усами и выражением интеллигентного удивления. Оба родителя выглядели старомодно. Отец был похож на субалтерна времен Первой мировой. Мать — на раннюю звезду немого кино, с короткими светлыми волнистыми пышными волосами, прямым носом, маленьким ротиком и прекрасными глазами. Она до сих пор не выглядела пожилой, а была похожа на поблекшую молодую женщину и сидеть предпочитала на полу, низкой табуреточке или подушке, демонстрируя прекрасные гладкие ноги, стройные лодыжки и глянцевые туфли на высоком каблуке. Между Мэри (née Гордон) Скарлет-Тейлор и ее сыном всегда существовало некое смутное, но не враждебное напряжение. Она нервничала, боясь, что докучает ему своей любовью. Он раздражался и чувствовал себя виноватым, понимая, что прячет от матери свою любовь, как последний скряга, из соображений благоразумия. Может быть, она даже и не знала, что он ее любит, а могла только догадываться. Он знал, что таким образом намеренно лишает мать счастья, которое, может быть, принадлежит ей по праву. Ее голос, тихий, с очень слабым ольстерским акцентом, напоминал Эмме, что он ирландец. Иногда они вдвоем были похожи на юных любовников.