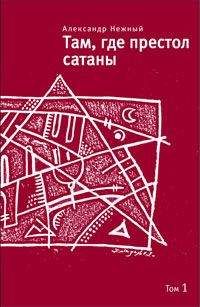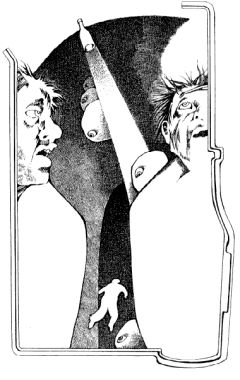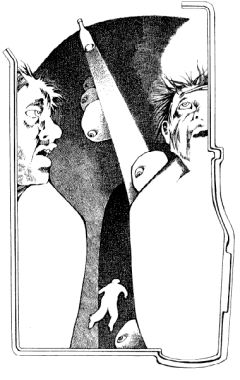Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
– А билет? – изумился летописец. – У вас же билет на руках. А в наше время с ними так трудно!
– Да черт бы с ним, с билетом! – сорвалось с языка доктора упоминание о нечистом, к прискорбию, широко распространенное в обиходе, но совершенно неуместное в присутствии служителя священного алтаря. – Простите, – пробормотал он, обращаясь к о. Дмитрию, на что тот ответил вольнодумным взмахом руки. Пустое. Это ли грех? Бестрепетными устами он вымолвил: «Черт», прислушался и пожал плечами. Вполне бытовое явление, как писал ныне почти забытый честный писатель Короленко. В сущности, вся наша жизнь представляет собой одну огромную Лысую гору. А черт – всего лишь неловкая попытка человека оправдаться перед Богом.
– Бес попутал! – подхватил Игнатий Тихонович.
Вот-вот. Но чем переливать из пустого в порожнее и рассуждать о предмете в высшей степени недостойном, не в пример благородней пожелать нашему гостю благополучного возвращения в родные пенаты, освященного брака и мира и согласия с избранницей его сердца. Многая и премногая лета.
Все это было высказано о. Дмитрием с неподдельной благожелательностью, какой-то давно вышедшей в тираж учтивостью, однако с несомненной, хотя и скрытой горечью. Тут не надо даже было спрашивать, отчего. Ясно без слов. Кто потерпел крушение в семейной жизни, тому даже при отблесках чужой любви становится тяжко, как на похоронах. Будто червь, точит и точит сердце одна-единственная мысль о принятом на самом верху, выше некуда, несправедливом решении, обрекшем его на одиночество, тоску и впустую горящее пламя. Кому жаловаться? Кто выслушает его с подобающей суду непредвзятостью? В каких словах составить аппеляцию? Взгляните, о справедливые судьи! И Ты взгляни – Тот, за Кем с начала всех времен всегда остается последнее право казнить или миловать. Как Иов, сижу я на пепелище моей жизни и глиняным черепком скребу покрытое коростой тело. Живы жена моя и дочь, ее порождение; но для меня все равно что мертвые, пусть не было ветра и упавшего на них шатра. Дитя возлюбленное, Ивашечка. Скоро буду старик, а ты мне будешь чужой. Попал в руки компрачикосов, и они поместили тебя в сосуд, полный превратных мнений обо мне, сдобренных равнодушием и презрением. Ничтожный человек.
Ему.
Обо мне.
Сыну.
Об отце.
Каждое ее слово – яд, и каждый ее взгляд – ложь. Моя по-губительница. Лиллит, предающаяся блуду в низинах, распутничающая на вершинах, сидящая у развилки дорог и открывающая себя всякому, кто ее захочет. Он облизнул пересохшие губы. Жажду. Игнатий Тихонович взял бразды правления в свои руки и плеснул хозяину и московскому гостю, не забыв и себя. На правах старшего, объяснил он свой поступок и произнес, опять-таки на правах старшего, краткое поучение в духе Ярослава Мудрого или другого князя из тех золотых времен, когда, и так далее, словом, русская правда в свободном изложении, русские люди вообще должны любить русскую правду, а не какую-нибудь, скажем, английскую или японскую, к чему призывает нас, в том числе, правдивейшая «Летопись о граде Сотникове», хватит вам, молодые люди, печалиться, стенать и лить слезы. О чем?! Умерьте свои требования к жизни, и тогда у вас не будет поводов проклинать людей, обстоятельства и судьбу.
– Я не проклинаю, не печалюсь и слез не лью, – сумел вставить Сергей Павлович. – Я ужасно боюсь ее потерять.
– Не бойтесь! – В сотниковском Несторе проснулся учитель, не допускающий сомнения в правоте своих слов. – Если любит – простит. И вы, – обратился Игнатий Тихонович к хозяину со старинным призывом, – прочь грусть-тоска! И со мной случалось, не думайте… Весь белый свет становился не мил, когда представишь, снова в школу, а плюс b в квадрате и все такое прочее. Пытка. Но ведь и хуже могло бы тебе быть. Ты, к примеру, опасно болен, или не имеешь средств к более или менее достойному существованию, или тебя, невинного, забрали и упекли, и хоть головой о стенку! С этой точки зрения все наши несчастья гроша ломаного не стоят. С женой не повезло – да с кем не бывает, милый вы мой! На каждом шагу. У меня товарищ, он в Пензе, он пять раз был женат! Все искал…
– И нашел? – вяло спросил о. Дмитрий, хотя невооруженным глазом было видно, что ему совершенно все равно, счастлив ли товарищ Игнатия Тихоновича в пятом браке или вынужден продолжить свой поиск.
– Прекрасная у него сейчас жена! Молодая… – чистенький старичок чуть замялся, желая найти окончательный и бесповоротный довод, против которого ни у кого не оказалось бы веских возражений. Его озарило. – Пышная!
– Неслыханное везение, – пробормотал хозяин. – Еще и пышная…
– Да! – с жаром подхватил летописец. – И здесь, – округлым движением он показал, сколь высока грудь пятой супруги его пензенского товарища, – и здесь, – тут он опустил руки к своему более чем скромному седалищу и широко их развел. – Экспонат!
– А у меня, – промолвил иерей, обращаясь преимущественно к доктору Боголюбову, – два брака, и оба неудачные.
Кивком головы Сергей Павлович выразил понимание, о каких браках и каких неудачах идет речь. Зато Игнатий Тихонович изобразил на румяном личике глубокое изумление.
– Два?! Быть не может. У вас единобрачие…
С прерывистым вздохом и снова блуждая взором по комнате, уже нуждающейся в освещении, о. Дмитрий его вразумил.
Есть жена во плоти, чадородящая, может, верная, может, прелюбодействующая, никогда не угадаешь, когда женишься, вроде кота в мешке. И есть жена в духе, каковой для священника в известном смысле является Церковь. Он служит ей до смерти с верностью любящего супруга, ибо она – Бет-Эль, жилище Бога, Кому слава ныне и присно и во веки веков, аминь. Он – когэн, поставленный пред лицом Господа, облаченный в бигдэй-кодэш, одежды священные, и вступающий в sancta sanctorum,[37] дабы заклать Агнца и принести Жертву, которой, собственно, и держится мир. В Богочеловека, Его воплощение, жизнь, крестную смерть и воскресение верую. В жизнь будущего века. В лествицу Иакова. В благословение Аврааму. Он наморщил лоб и медленно и внятно, чуть нараспев, произнес: «Венибрекý бека коль мишпехот гаадама».[38] Древний язык.
Игнатий Тихонович посмотрел на доктора Боголюбова с гордостью хозяина зверинца, раздобывшего диковинное животное вроде утконоса. Не говорил ли я, что это человек необыкновенных познаний? Несомненное приобретение для града Сотникова, но, отставив квасной патриотизм и рассуждая здраво, признаем в нем закопанный талант.
Древнее некуда. В бытность праотца нашего Адама в раю на этом языке Бог давал ему указания и стыдил за проявленное слабодушие.
– Но я не могу, – едва вымолвил о. Дмитрий. – Что хотите со мной делайте, волоцкого игумена из гроба поднимайте, он меня на костер… Или на плаху меня, или в зону… Волчий билет на священство… как угодно. Но я в нашей церкви, в Патриархии этой Московской, я задохнусь скоро от непереносимой тоски! Или разрыв сердца… возмездие за жизнь с запечатанным ртом. Я слышать больше не могу это мычание, считается, чем громче, тем лучше и богоугодней, будто все собрались тугоухие и сам Господь по древности со слуховым аппаратом… Бла-а-аго-о-сло-ви-и вла-адыко-о-о, – с отвращением на лице изобразил он. – Услы-ыши-им Свята-а-го Еванге-ели-ия… Услышим! – горестно усмехнулся о. Дмитрий. – Я в храме по-русски читаю и лицом к народу, меня за это епископ обновленцем честит и грозит запретить. Пусть. Не все у них худо, не все ложь. У них один Антонин чего стоит, наш Лютер, а кто о нем знает? А у нас к народу задницей и по церковно-славянски… Все стоят как пни, никто ничего. И взреветь напоследок!
Голос вздрагивающий, тревожный, и сумбур в речах, едва успевающих за мятущейся мыслью. Все смешалось – рискнем поставить здесь в строку эти вдоль и поперек изъезженные слова – в горячке его рассуждений и осуждений. Что правда, то правда, было мельком заявлено, что осуждению подвергается прежде всего явление как таковое, вне связи с его носителем, но спросим по совести, кому и когда удавалось обличать грех, не задевая грешника? По какой статье прикажете провести слетевшие непосредственно из божественных уст порождения ехиднины? Из того же источника и гробы повапленные. И змии. И лицемером назвать – тоже не по головке погладить. Нет, судари мои, наш Господь за словом в карман не лез. Мимоходом помянуты были всем известные в нашем Отечестве священники, отцы-борцы Дубко и Ялунин, причем о первом ввиду его двойного или даже тройного сальто-мортале отзыв оказался довольно-таки уничижительным, вроде того, что был martyr,[39] а попал в сортир, о втором же было сказано, что симпатичный, но недалекий. Мелко пашет. Свободу ему подавай. От кого? А главное – кому? Сухим костям свободу? Вот они собираются на свой собор, все в митрах. Страшное зрелище! Сидят, как куклы. Изволися Святому Духу и нам. Кто меньше, кто больше, но каждый погряз. Сергей Павлович живо представил сидящего в первом ряду Феодосия с маленьким, вздернутым, красным как перечный стручок носом; колдунью Евгению Сидоровну вспомнил и двух несчастных деток, братца и сестрицу. Каким-таким образом, складывая сотню (примерно) во всех грехах погрешностей, мы получаем одну светящуюся мудростью и красотой непогрешимость?