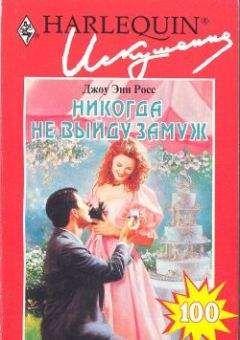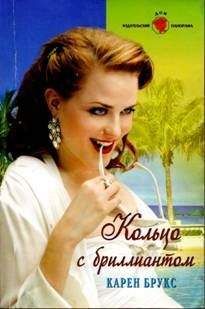Ричард Форд - День независимости
Впрочем, можно усмотреть в моей жизни и сторону более светлую – особенно если помнить, что хорошие новости часто принимаются за плохие. Жизнь риелтора, временами обращающая тебя в Поллианну[124], позволяет также крепко держаться за непредвиденность и даже предлагать ее людям в качестве источника силы, более того, подлинной само-оправданности, ведь риелтор верует в то, что у человека должен быть дом – и что человек его получит. В этом смысле риелторство есть «истинно американская профессия, идущая рука об руку с фундаментальным пространственным опытом существования: побольше людей, поменьше места, поскуднее выбор». (Это я, разумеется, в книжке вычитал.)
Два – ну пусть будет два — здоровенных мебельных фургона бок о бок стоят в это позднее праздничное утро перед двумя домами Лауд-роуд прямо за углом от моего прежнего некогда счастливого семейного гнезда на Хоувинг. Один – быковатый, зеленый с белым «Бекинс» – открыт с трех сторон, другой, сине-белый «Атлас», разгружают сзади. (Увы, желто-зеленый «Мейфлауэр» отсутствует.) Торчавшие перед каждым домом таблички «ПРОДАЕТСЯ» заклеены стикерами «ЭТОТ ДОМ ВЫ УПУСТИЛИ». Дома не наши; впрочем, и «Богемии», «Покупай и расти» или новой конторе из Нью-Египта они тоже не принадлежат, но находятся в ведении респектабельной «XXI век» и народившейся лишь прошлой осенью «Колдуэлл Бэнкер».
Что и говорить, этот день хорош, чтобы начать все сначала – въезжаешь ты или выезжаешь. Вот и новые мои съемщики наверняка это понимают. Все соседские лужайки подстрижены, обкопаны и выровнены, фасады многих домов еще весной подкрашены и приведены в полный порядок, фундаменты укреплены, деревья и кустарники зелены и нарядны. Да еще и цены пусть немного, но снижены.
Собственно говоря, если бы я не был сыт Маркэмами по горло и не опасался столкнуться лицом к лицу с Ларри Мак-Леодом, то поехал бы сейчас на Клио-стрит – посмотреть, чего они достигли с десяти утра, и еще раз пожелать им всего самого лучшего.
Но я вместо этого привычно, как в прежние времена, сворачиваю на благоухающую, тенистую Хоувинг-роуд, куда редко теперь заглядываю, и напрасно, поскольку горестные воспоминания мои почти выкипели, оставив в осадке лишь добрые или терпимые и поучительные, а значит, опасаться мне нечего. Внешне она осталась за последнее десятилетие все той же богатой улицей с живыми изгородями, большими тенистыми лужайками, а за ними – бельведерами, укрытыми от глаз бассейнами и теннисными кортами, и шиферными крышами, и мощенными каменной плиткой верандами, и садами, в которых всегда что-нибудь да цветет, – в сущности, это сельские поместья, ужатые до городских размеров, но сохранившие дух изобилия. Живший наискосок от меня, в № 4, председатель Верховного суда штата Нью-Джерси умер, однако вдова его продолжает вести активную жизнь. Деффейсы, бывшие с первого дня нашими престарелыми соседями, обратились во прах (хоть и на двух разных чужих берегах). Дочь знаменитого советского поэта-диссидента, уже после моего отбытия переехавшая сюда в поисках уединения и приятной, безопасной обстановки, но встретившая недоверие, презрительную снисходительность и демонстративное пренебрежение, возвратилась на родину, где попала, как говорят, в сумасшедший дом. Рок-звезда, купившая № 2, посетила его единожды, никакого радушия не встретила, даже не заночевала и навсегда вернулась в Лос-Анджелес. Оба эти дома значатся в наших списках «продается».
Институт сделал все возможное, чтобы прежний мой дом, официально именуемый ныне «Экуменическим центром имени Хаима Янковица», сохранил вид жилой и уютный: он по-прежнему окружен моими любимыми буками, красными дубами, веерными кленами и пахизандрами. И все же, остановив машину через улицу от него ради осмотра, который я слишком долго откладывал, я волей-неволей замечаю осенивший его «институтский» флер: изначальный деревянно-кирпичный фасад переделан, перекрашен в тона отполированного красного дерева; прежние оконные рамы заменены стальными; над похорошевшей, ухоженной лужайкой низко развешены фонари; подъездная дорожка выровнена, заасфальтирована заново и идет теперь полукругом; к восточной стене, у которой стоял отсутствующий ныне гараж, прикреплена металлическая пожарная лестница. От работников нашего офиса я слышал, что и внутренняя планировка дома «упрощена», его оснастили цифровой антипожарной системой, а над каждой наружной дверью появилась рдеющая табличка «ВЫХОД», – все ради безопасности и удобства заграничных религиозных сановников, которые приезжают сюда, не ожидая, уверен, ничего более существенного, чем простой пригородный дом отдыха, неофициальные беседы и возможность смотреть кабельное телевидение.
После того как я продал этот дом, часть моих прежних соседей в течение некоторого времени осыпала городской комитет по планированию жалобами и петициями насчет возросшего потока машин, неправильного использования жилого фонда, «появления в квартале посторонних людей» и неизбежного после того, как Институт осуществит свои планы, ослабления здешней ценовой структуры. Планы эти ненадолго подверглись судебному запрету, а затем два проживших здесь по сорок лет «старых рода» уехали (оба в Палм-Бич и оба – продав свои дома Институту по бешеной цене). Когда же Институт согласился убрать установленную в начале подъездной дорожки едва приметную табличку с его названием и потратил немалые деньги на благоустройство квартала (привез на платформе и высадил перед одним из здешних домов два больших гинкго, а мое старое тюльпанное дерево спилил), шум утих. И наконец, Совет попечителей купил дом того самого судьи, что наложил запрет. В итоге все остались довольны – не считая нескольких старожилов, которые разобиделись на меня и принялись разглагольствовать на коктейлях о том, что они-де всегда понимали: жизнь в этом квартале мне не по карману, я и в 70-х был здесь белой вороной и лучше бы мне было сразу вернуться туда, откуда явился, – хоть они этого нехорошего места и не знали.
И все же, все же испытываю ли я, сидя здесь, какую-нибудь грусть-тоску? Где тот запах утраты, который я унюхал три ночи назад в доме Салли, и едва слезу не пустил? Ведь когда-то, в прошлую эпоху моего существования, я жил в этих местах, а теперь снова оказался тут, ощущая себя неуместным. Не должен ли я чувствовать себя здесь лишь в еще большей мере своим? В этом доме я любил, похоронил неподалеку от него сына, лишился хорошей, стабильной жизни, а потом еще жил один, пока не понял, что и минуты в нем больше не выдержу, и вот теперь вижу его превратившимся в «Центр имени Хаима Янковица», безразличным ко мне, как леденец на палочке. Да, стоит спросить еще раз: есть ли причины думать, что дом – любой дом, – с его штукатуркой и балками, деревьями и кустами, когда-либо дает в его предположительной сущности приют какому-то нашему духовному призраку, доказуя тем самым свое и наше значение?
Нет! Ни в малой мере! На это способны лишь другие человеческие существа, да и те при особых обстоятельствах, – вот урок Периода Бытования, который стоит запомнить. Пора нам взяться за ум и перестать просить у домов то, чего они не могут дать, и начать придумывать другие возможности – как сделал, по крайней мере на время, Джо Маркэм и, может быть, делает сейчас мой сын Пол. Вот это и станет свидетельством нашей желанной Богу, но Богом не даруемой независимости.
Истина такова (быть может, это говорит моя вера в прогресс): старый дом на Хоувинг-роуд больше походит на похоронное бюро, чем на мой дом или дом, в котором прошла часть моего прошлого. И владеющее мной странное чувство просто-напросто свидетельствует о переходе – и в том нет ничего дурного – к пониманию: поселяя призраков там, где нам довелось жить, мы только все запутываем, ведь как ни крути, а подтверждающей хоть что-то материальностью они не обладают. Честно говоря, мне начинает казаться, что если я просижу здесь в машине еще минут пять, созерцая мой прежний дом, как паломник – пламя оракула, то обнаружу, что вся моя грусть-тоска была лишь подготовкой к взрыву хохота и отсыханию решительно мне не нужного кусочка моей души, который я все же предпочел бы скорее сохранить, чем утратить.
– Ну вот скажите, купили бы вы у такого типчика уже бывший в употреблении дом? – произносит лукавый голос, и я, испуганно дернувшись, обнаруживаю прямо за стеклом ухмыляющийся, плоский лунный лик Картера Кнотта. Голову он склонил набок, ноги расставил пошире, руки скрестил, точно старый судья, на груди. На нем сырые лиловые плавательные трусы, влажные сандалии, короткая куртка из лиловой же махровой ткани, не скрывающая его слегка округлившийся животик, – все это означает, что он только что вылез из своего бассейна в доме № 22 и проделал, крадучись, немалый путь лишь для того, чтобы перепугать меня до смерти.