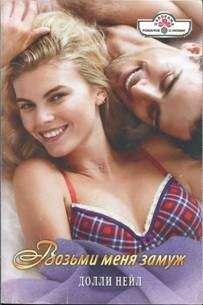Александр Терехов - Каменный мост
Здесь у меня провал памяти. Мне кажется, я своими глазами видела 'красивую девушку на асфальте' , ее рассыпавшиеся каштановые волосы. Но я думаю – это аффект».
Н е к т о-2: «В квартире совершенно безумный Костя. Рая, его жена, находилась в это время на даче, и Костя передал ей, что произошла автомобильная катастрофа, и внушал всем (люди подходили): не проговоритесь!»
Некто-3: «Раису Михайловну увели из дома, чтобы сменить обстановку, и доставили в номер к Трояновским в полной прострации. Она лежала на кровати неподвижно, как скатанный ковер. Вызванный врач попросил сына Трояновского от нее не отходить. Туда же пришла Полина Семеновна Молотова. Уманский заглянул проведать жену и быстро ушел посоветоваться с Шейниным. Вернулся со странной фразой на устах: 'Когда поговоришь с умным человеком – совсем другое дело". Возможно, он советовался: отменять вылет или остаться. Я не знаю, что могла означать эта фраза».
Н е к т о-4: «Когда Константин Александрович зашел к нам после смерти Нины, он выглядел страшно – плакал, себя проклинал, я на него глаз поднять не могла. Раиса после смерти дочери практически сошла с ума. На память о дочери она взяла часы и всегда носила их на руке».
Н е кт о-5: «Он повторял Эренбургу: 'Ну почему я не послушался вашего совета?! ' А тот не мог понять: какого совета?»
Н е к т о-6: «Софья Мироновна пластом лежала на кровати. Она считала, что произошедшее – дело рук немецкой разведки. Шахурин казался совершенно спокойным и ходил по квартире. Шейнин как-то сказал в конце рабочего дня: Шахурина требует, чтобы дело признали политическим, а это всего лишь результаты плохого воспитания».
Все испугались – родители 175-й школы, «проклятой касты», как выразился император, сцепились на час-два-три локтями вокруг лестничной площадки, испачканной кровью и посыпанной песком, пока постовые еще звонили своим начальникам в райотделы, пока не подъехал НКВД, пока Берия или Абакумов не попросили своих «…этот вопрос поглубже»; придумать, как представить императору, чтоб спасти то, что еще можно спасти, чтоб земля не расползлась и не съела всех, кто рядом. Лев Шейнин, всего лишь умный, правильно понявший задачу инструмент, скальпель, повар, подъехал, когда ему уже сказали, что стряпать: безумная любовь, страсть, Иосиф Виссарионович, девку положил из «вальтера» наповал и себе – от виска до виска.
Они рассчитывали: у императора стрелялся сын, жена императора покончила с собой (и тоже из «вальтера») – они так приготовили, и император должен съесть, пойматься еще потому, что – дети; император и его близкие словно не знали, что делать с детьми, им не хотелось возни, в Москве насчитывали шестьсот подростков-бандитов, детский писатель Чуковский (в мае, трех недель не прошло) умолял старших «основать возможно больше трудовых колоний с суровым военным режимом» для школьников начальных классов, а то ведь необъяснимо почему растут ворье и убийцы; маршал Ворошилов, взволнованно прохаживаясь по кабинетному простору, описал императору, Молотову и Калинину, как девятилетний мальчик чуть не зарезал сына зампрокурора Москвы и вслух выразил волнующий всех вопрос: «Я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстреливать?»; император своей рукой ужесточил постановление (готовил Вышинский, помянем, так сказать, юриста): расстреливать мерзавцев с двенадцати лет. Императора не могло удивить, что ученики лучшей школы стреляют друг в друга из пистолетов – дети! И еще (предполагали все) он должен повестись на любовь – любовь не признавал заслуживающей императорского внимания, «это для баб», но сталкивался с ней в самых неожиданных местах – трех месяцев не прошло, как вмазал десятикласснице дочери две размашистые пощечины за: «А я люблю его!», за нежное чувство, осторожно пробужденное и выращенное сорокалетним драматургом Каплером, решившим сходить за жар-птицей кратчайшим путем. Император вытребовал для чтения и оценки любовную переписку, и в страшном бессилии хоть что-то изменить, ведомом каждому отцу, человек, двигавший к жизни или в противоположную сторону… миллионы, с любовью – не мог ничего; роняя конверты с голубками и целовальным бредом, хрипел за помощью к единственной на свете, способной утешить: «Подумай, няня, до чего дошла! Идет такая война, а она занята…» – и мужицким словом! Дочери не мог простить – идет такая война, – но 3 июня (так они, заинтересованные, рассчитали) ему пришлось узнать: этим занята не только дочь его, придется смириться – смирись! – и он не стал бы вникать (тоже угадали), потому что, как верно написала расстрелянная за год (и сыну Джонику пришлось несладко) до 3 июня Мария Анисимовна Сванидзе, подруга императоровой жены, «для Иосифа было бы ударом знать все во всех подробностях…»; вот на что уповали: император не захочет знать все во всех подробностях, это под силу только тому, кто пишется с большой буквы: «Он устает, ему хочется дома уюта и покоя среди детей. И вдруг надоедать ему со всеми дрязгами детской…»
Поэтому он только и сказал: волчата. С оттенком удивления. Или отчаяния. Или… Никто не запомнил. Говорил так?
Кому выпало обслужить, сверяясь с записями в официантском блокноте?
3 июня к Сталину заходили Молотов и Берия – еще не о чем.
4 июня – Берия, нарком госбезопасности Меркулов (первые детали) и герой-снайпер Людмила Павлюченко – она проехала с успехом по Америке – как принимали простые американцы?
5 июня– думаю, основным блюдом императора угощали именно в этот день (умер Володя, улетел Уманский, Шейнис написал сказку). В 22:35 зашел Микоян. Через пять минут император вызвал начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ Абакумова. Вместе они говорили час. Первым вышел Абакумов и через пятнадцать минут – в полночь – вышел Микоян, «он порешал свой вопрос», как научились говорить много позже русские люди.
Шахурин, несчастный Шахурин, любитель красивых галстуков и собственных портретов, закопавший в Новодевичьем керамическую банку с прахом единственного сына, зашел 9 июня – вот ему красная цена! – и сидел, усердно трудясь на совещании с одиннадцатью участниками двенадцатым, показывая: главное – победить в войне с немецко-фашистскими захватчиками, все остальное – несуществующие подробности. И, должно быть, улыбаясь, где требовалось, Микояну, заседавшему тут же, но к императору сидевшему много ближе; и заходил к императору 10, 14, 15 июня – дни, когда он мог еще осмелиться или ожидать (и бояться) сочувственного (или укоряющего) вопроса: «Я слышал, ваш сын…» (спросит его император, потерявший сына в концлагере, отец народа храбрых мальчиков, погибавших в партизанских отрядах, взрывавших мосты), но – ни разу с глазу на глаз.