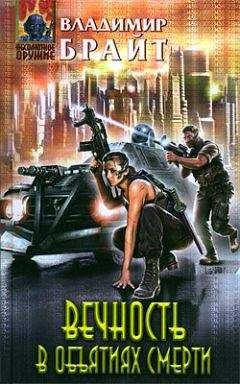Владимир Высоцкий - Черная свеча
А пока — до свидания, Америка! Мы открываем новый континент по имени Россия!
Вадим вытер рукавом полосатой рубахи даже на ветру покрывшийся испариной лоб и улыбнулся ей счастливой улыбкой человека, который никуда не спешит:
— Здорово!
Долгий поцелуй заменил многие ласковые слова.
— Ты даже не представляешь, как это здорово!
Левой рукой Вадим обнял ее хрупкие плечи, правой подхватил с земли вещевой мешок и, обернувшись, сказал, чувствуя, как душа освобождается от тесных объятий выбора:
— Мужики, я вас не потеряю. Мы им еще покажем.
Счастливый человек легко подвержен благостному самовнушению. Он стремится к бесконечному душевному миру, но наслаждается временным, не зная того, что судьба его будет расписана по всем этапам опасной жизни. Сделают ли это воры, суки или коммунисты…
Какая разница? Своей судьбы не будет.
Послесловие
Итак, вы закончили чтение романа «Черная свеча».
Я убежден, что вы только что прочли одно из самых значительных литературных произведений XX века, которому суждено войти в золотой фонд мировой культуры и о котором вновь и вновь будут писать критики многих поколений, пытаясь через него, как через телескоп, вглядеться в уже отошедшую для них в прошлое небывалую эпоху. А вы попали в число его первооткрывателей.
Я понимаю, что вас переполняют сейчас самые разнообразные чувства, и, возможно, вы испытываете нервное потрясение и близки к шоковому состоянию. Тем не менее я хочу добавить несколько слов к сказанному в романе, который, на первый взгляд, не нуждается в комментариях.
Впрочем, если вам действительно необходимо прийти в себя, отложите чтение моего послесловия на некоторое время. Но потом все-таки прочтите его. Я не собираюсь пересказывать роман и не приведу из него ни одной цитаты. Я скажу нечто от себя и, надеюсь, это поможет вам лучше оценить «Черную свечу». Я беру на себя такую смелость не потому, что я умнее или тоньше вас, а исключительно потому, что имел гораздо больше времени на осмысление романа, поскольку проглотил его еще в рукописи, а потом прочитал очень внимательно и очень медленно во второй раз.
Известно, что адекватное художественное описание исторических реалий появляется не сразу, а с некоторым запозданием. Оптимальное время, которое должно пройти, — около пятидесяти лет. Примерно с таким сдвигом фазы была создана Толстым эпопея о войне 1812 года и Фолкнером эпопея о гражданской войне в Соединенных Штатах. Можно догадаться, почему наилучшие условия для художественного осознания событий возникают именно после этого срока. Правильно описать их раньше трудно из-за того, что не остыли еще побочные страсти, заслоняющие основу происходившего, и не все документы обнародованы или хотя бы рассекречены.
Позже возникает другое препятствие: выдыхается аромат эпохи, вымирают люди, бывшие очевидцами тех явлений, которые составляют стержень книги и которые способны о них рассказать. Конечно, не обо всем, что случается в истории, пишутся тексты, сопоставимые по силе и точности передачи с «Войной и миром» или «Сарторисом», но если пишутся, то где-то в диапазоне 40-60 лет спустя. Если же проходит сто или двести лет, то получается просто сказка, вроде «Айвенго» или «Князя Серебряного», пусть талантливая и поучительная, но лишенная всякой достоверности, так что по ней нечего и думать изучать эпоху.
О той уникальной исторической данности, которую представляли собой советские концлагеря, художественного романа должного уровня пока не было, и возникло опасение, что уже и не будет, и наши потомки так и не смогут понять суть и самой данности, и той системы, которая ее породила.
Ведь понять суть вещей, которые уже отошли в прошлое, можно только по правдивому художественному выражению этих вещей, только с помощью искусства.
Одних документов, даже таких подробных и впечатляющих, как «Архипелаг ГУЛАГ», тут мало. Правда, были у нас на лагерную тему и художественные публикации: «Один день Ивана Денисовича» и в «Круге первом» того же Солженицына или «Верный Руслан» Владимова, но они были слишком но горячим следам, поэтому в них не могло быть отстоявшихся обобщений, да их авторы и не ставили задачей такие обобщения, эта была литература совершенно другого жанра…
Теперь эти опасения, мне кажется, позади — роман-эпопея о зэках появился. Пока это только первая часть, но и ее достаточно, чтобы ощутить масштаб и значение произведения. Это-текст, который проводит нас не по одному какому-то кругу созданного большевиками ада, а по всем его кругам и показывает не только физические муки людей, но невидимую бесовщину, наплодившуюся от призрака, бродившего когда-то по Европе, но поселившегося почему-то не там, а у нас. И в этом главная ценность «Черной свечи».
Факт глубокого сходства между коммунизмом и тюрьмой замечали многие, и о нем было не раз написано.
Да и трудно не заметить этого сходства. Идейными предшественниками марксистов были социалисты — утописты, а они, начиная с Платона, изображали «светлое будущее» в виде огромного концлагеря, где все одинаково одеты, по свистку идут на работу и по свистку возвращаются домой, а их дом — на самом деле не дом, а общежитие, и контроль над их поведением и образом мыслей не прекращается и там. Когда же их мечта наконец осуществилась в одной отдельно взятой стране, то граждане этой страны, живя в коммунальных квартирах и в обязательном порядке посещая собрания и политучёбу, могли воочию ознакомиться со всеми ее прелестями. «Железный занавес» отделил их от нашего мира, и они действительно оказались в лагере, который даже и официально назывался «социалистическим лагерем». Так что посвящать раскрытию упомянутого сходства художественную прозу уже нет особого смысла, тем более что его достаточно полно раскрыл Оруэлл. Л вот поразительное подобие двух корпоративных обществ, находящихся на противоположных концах социальной иерархии, ибо одно из них составляют партийные функционеры, а другое — уголовники, не было показано с художественной убедительностью пока никем. Авторы «Черной свечи» сделали это первыми.
А ведь аналогия вроде бы лежала на поверхности.
Ни для кого не было секретом, что еще до революции большевики — подпольщики грабили банки и совершали террористические акты. Знали мы и о том, что преступные элементы приняли активное участие в установлении Советской власти — примером тому служит бандит Гришка Котовский. В первые годы после революции, окрыленные успехом и не очень-то заботившиеся о маскировке, большевики открыто называли уголовников «социально близкими». В пьесах одного из главных литературных лизоблюдов партии Погодина воры изображались благородными людьми, из которых гораздо легче воспитать настоящих строителей социализма, чем из паршивых интеллигентов. Характерно даже название его пьесы о них — «Аристократы».