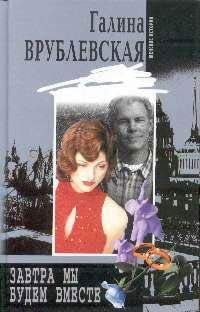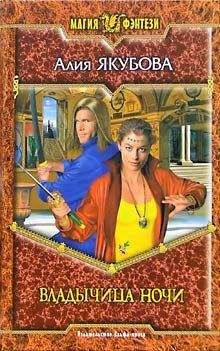Юрий Герман - Я отвечаю за все
— С Верунчиком-то? — быстро и неприязненно усмехнулся Цветков. — Та дама. Но и это ведь его не свернет. Из тех, что чем хуже — тем лучше.
— А может, как раз не лучше? — не согласился Степанов. — Личная жизнь — это большое дело. Если не задалась — человек вполсилы жизнь проживет, а задалась — и воробей соловьем защелкает.
— Думаете?
Красивые глаза Цветкова смотрели грустно; разливая кофе в большие тяжелые чашки, он говорил:
— Вы мне не верьте, что Владимир — болван. Это я из зависти. И еще потому, что знаю — он сильнее. Я поддался, а он нет. Вы не думайте, Родион Мефодиевич, что я пьян, я еще нынче буду пьян, это я только на пути к победе, на подступах, но я от него слышал о вас, и много слышал. А поговорить — ох как бывает надо. Но понимаете, даже в вагоне, в командировке — с товарищами, с помощниками, всюду не один. А так хочется: вы меня не знаете, я вас не знаю. Так вот — Владимир. У него дело ради дела. И это счастье. А есть люди, которые и поталантливее Владимира, а у них дело ради того, что оно дает. Ну, а что оно дает? Вот никто не может достать билет на сегодняшнюю премьеру, а моя жена из-за моего имени — может. Улавливаете? Но, спрашивается в итоге: а зачем?
— Зачем же?
— Ладно, замнем, — отпивая кофе, сказал Цветков. — Тут смешно только то, что все это начинаешь понимать, когда обратного хода нет. Сейчас выпьем наш кофе и перейдем к делу, а то я замечаю, что вы маетесь. А после вашего дела вернемся к моей жизни и обсудим ее. За коньячком, как сказано у ныне сурово критикуемого Достоевского.
— Кого, кого? — спросил Степанов.
— Неважно. Итак, дело.
Он поднялся, захлопнул дверь в переднюю и заговорил трезвым, спокойным, холодным голосом:
— Письмо Владимира я прочитал утром, когда приехал. Вашу супругу, Аглаю Петровну Устименко, я знал.
— Знали? — воскликнул Степанов. — Лично знали?
— Так точно. Имел честь знать в дни эвакуации Унчанска. Даже работал несколько суток под ее началом. Память у меня хорошая, в людях я разбираюсь и могу сказать — удивительнейшая женщина. На таких Советская власть держится. Но!
И он поднял палец кверху:
— Но это — мое личное мнение, которое в нынешние человеколюбивые времена я, разумеется, нигде, никогда и никому не скажу. Это мое, так сказать, секретное мнение. Да никто, кстати, в моих рассуждениях о качествах того или иного лица не нуждается. Однако же это мое секретное мнение и связанное с ним убеждение дает мне возможность по совести сделать все, чтобы узнать, что только смогу, об Аглае Петровне. А как я узнаю — это уж мое дело. Согласны?
— Согласен, — сказал Степанов.
— Значит, с этим вопросом все, — заключил Константин Георгиевич. — Вы можете уезжать в ваш Унчанск, чтобы не проедаться в Москве. Я напишу.
Степанов ответил, что не уедет — так надежнее. Будет ждать. Цветков уже не слушал, принес гитару с бантом и запел великолепным, оперным баритоном — сильным, глубоким и ласково-печальным:
Не гляди ты с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши…
Коньяк, гитара, старый романс, три недели унижений и нынешняя, сегодня объявившаяся надежда вдруг сработали сразу. Горло Родиону Мефодиевичу сжало, он почувствовал, как на глазах проступают слезы, постарался с ними управиться и не смог. Все последующее смазалось в его мозгу, он только помнил потом, что был слаб, совсем слаб, никуда не годен. Впрочем, продолжалось это не более часа. В этот странный час они, перебивая друг друга, говорили то, чего никогда не говорили самым близким людям.
— Первый брак у меня не получился, — говорил Степанов. — Понимаешь, Константин Георгиевич…
— Погоди, адмирал. В твоем возрасте об этом вообще несколько… старомодно говорить… В твоем возрасте…
— Не знаешь ты, какой Аглая Петровна человек, — перебивал Степанов. — Ты ее всего два или три дня видел во время эвакуации Унчанска. Ты не знаешь, как она воевала, какими делами ворочала…
— Вот бы сидела в Ташкенте — и гвардейский порядок…
— Не то говоришь, Константин Георгиевич!
— То! Самое страшное на свете — трусость, — утверждал Цветков, и красивое, бледное от хмельного, злое лицо его гадливо подергивалось. — Так почему же мы, мы, не трусившие на войне, боимся пойти и сказать про Аглаю Петровну правду? Почему? И я боюсь. И вы, адмирал, боитесь…
— Я не боюсь, — печально усмехнулся Степанов, — мне негде эту правду сказать, некому…
Зазвонил телефон. Цветков сорвал трубку, послушал, потом сказал:
— Но это же антинаучный, собачий, немыслимый бред.
Затем другим голосом он осведомился:
— Это у вас, дорогая подруга, точные сведения?
И потом холодно и строго поправил:
— Остроты тут совершенно неуместны. Завтра надо собраться и оформить все как положено. Нет, именно завтра, не затягивая дела. Моим именем. Почему только наш отдел?
— Вот и иллюстрация, — сказал он, водрузив трубку на место. — Вот и картинка к нашему собеседованию. Некий зоотехник поведет нашу медицину вперед и выше, выше и вперед. Он и с проблемами старости покончит, завтра же ему туш на духовых инструментах сыграем. А я в литавры ударю. «Имеется такое мнение, что…» Вы такую формулу когда-либо слышали? «Имеется мнение».
— Я недопонимаю, — сознался Степанов. — Разве зоотехник…
— Зоотехник допонимает, — скрипнув зубами, сказал Цветков. — Если имеется мнение — он допонимает. Он больше всех понимает, если имеется такое мнение. И я ударю в литавры. Почему же не ударить в литавры. А?
Так несли они всякий вздор до приезда Лидии Александровны, которая быстро, ловко, а главное, весело навела в прокуренной квартире порядок, подала ужин, рассказала про премьеру и про того, кто там был, а потом велела укладываться спать.
Степанова Цветковы никуда не пустили на ночь глядя.
Он принял это приглашение за чистую монету, так и не узнав, что делалось у него в тот вечер с его больным сердцем. Просто остался ночевать за поздним временем у хороших людей. От выпитого коньяку и усталости он спал крепко и не слышал, как сжималось и разжималось его сердце, с трудом проталкивая кровь и готовясь вот-вот остановиться навсегда. Оно бы и остановилось, если бы не шприц Цветкова и не умелые руки Лидии Александровны.
— Умрет? — под утро спросила она.
— Вероятнее всего.
— Он хороший человек?
— Уж лучше нас с тобой.
— А чем мы плохи?
— А чем мы хороши?
Всю эту длинную ночь Цветков подливал себе коньяк. И не только не пьянел, но стал почему-то даже трезветь.
«ВЫ ПИСАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ?»
В тот самый студеный февральский вечер, когда Родион Мефодиевич сидел у Цветкова, Аглаю Петровну Устименко привезли в холодном «черном вороне», или в «воронке», как называли этот фургон заключенные, во двор внутренней тюрьмы МВД города Сольчежмы.

![Борис Хантаев - Праздник живота [СИ]](/uploads/posts/books/87303/87303.jpg)