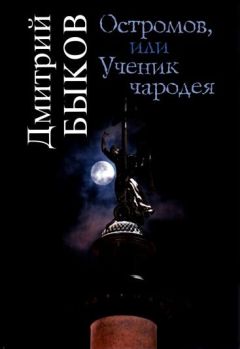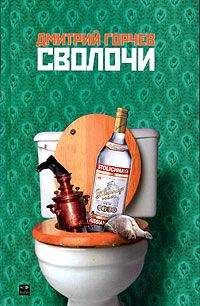Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Денисов, не отрываясь, писал.
2— Гражданка Пестерева, — скучным голосом произнес Денисов, — Ольга Николаевна, 1865 года рождения, беспартийная, пенсионерка третьей категории, из дворян, дочь почетного гражданина, образование домашнее, не служила, проживающая по Пятой советской, дом 15, квартира 13, имеете ли чем дополнить сказанное?
Он оторвался от опросного листа и посмотрел на Пестереву, как на вошь.
— Я дополнить-то не имею, — сказала грузная Пестерева просительным недворянским голосом, беспокойно ерзая на стуле. — А ты бы, сынок, послушал меня…
Дочь почетного гражданина, из дворян, хотя бы и пенсионерка третьей категории, не могла говорить ничего подобного. Денисов был предупрежден насчет фокусов и заподозрил неладное.
— Я не сынок вам, — сказал он грубым, старательным двадцатитрехлетним басом. — Обращайтесь как положено.
— Ну, не сынок, — легко согласилась Пестерева. — Внучок. — Так, по-домашнему, «унучок», говорила вятская бабушка Денисова, с которой Пестерева никак не могла встречаться в дореволюционной жизни. — Послушай бабушку, унучок, для тебя будет не худо. Я что скажу-то тебе. Ты слушай-ко, слушай, успеешь с писаниной своей. Бабушка плохого не скажет. Ты думаешь, уж и превзошел все? Ты скажи-ко мне: вот, собирались люди. Люди бедные, немолодые уж, многие вон какие хворые, у кого глазки не видят, у кого ножки не ходют. Ну, собирались, игралися кто как мог — кому плохо? Никого ж не трогали, на аркане-то не тянули. Говорили, пели, небывальщину рассказывали. Что ж ты нас запер, убогих, нам вить все одно помирать скоро! А раз помирать, то какая ж разница, что мы там меж себя говорим? И власть мы вашу советскую не трогали, не надо нам ничего, не убили, и спасибо. И заграницы никакой не было, все свои, самые что ни есть питерские. Никому не было худа, не вредили, не грабили — что ж ты, унучок, баушку мучишь? Баушка тебя медком кормила, молочком поила. Вон ты вырос какой красивый да белый. А ты теперь старенькую под замок, ну — хорошо ли?
Денисову стало жарко. Пестерева сидела напротив, глядя на него тревожно и жалостливо. Густой голос ее обволакивал голову Денисова, как мед.
— Если имеете жалобы, вам следует заявить согласно имеющегося, имеющихся распорядков, — пробормотал он первое, что пришло в голову. Он цеплялся за эту формулу, чтобы не утонуть в густом меду баушкиных речей, засасывавших его, как трясина, в самое глубокое детство и глубже, в уютную темноту, в утробный, дословесный покой.
— Да каки ж таки жалобы, коли привел Господь такого внучка увидеть! — ласково продолжала Пестерева. — Нам радоваться на вас, а ты — жалобы! Одна жалоба, внучек, что ты уж решил — все, я большой, я судить поставлен! А ты слушай-ко баушку, баушка худому не научит. Где тебе судить, коли ты сам ничего не знаешь? Сам ты скажи: что мы тебе сделали? Сидели, говорили, в наряды наряжались. Так ведь нам только и осталось, что помирать. По углам сидим, свету не видим, не блажим, не ропщем, деток у нас нет, иной раз хлебушка принести некому. Вот и скажи: кому плохо было, что мы сидели по углам, помирать готовились?
— Вы… Ты… — смешался Денисов. — Ты сейчас такая смирная, а раньше что было?
— А что было? — искренне удивилась баушка.
— Отец меня бил! — плачущим фальцетом воскликнул Денисов. — Мать забил, сестру забил, меня в мальчики отдал при столяре! Столяр бил, я в Америку сбежал, в Таганроге споймали! В железнодорожных мастерских два года, чуть слуха не лишился! Если б товарищ Марусин не надоумил в следственное пойти, и сейчас бы там… в копоти… А товарищ Марусин сразу сказал: ты дюже злой, с тебя следователь будет на большой палец! А ты что делала? Ты померла, когда мне восемь лет было, и взятки с тебя гладки, и защитить некому!
— Так ведь Божья воля, унучок, — смиренно сказала баушка Пестерева. — Рази бы я своей волей оставила тебя? Что ж ты меня теперь, покойницу, под замок?
— Ааа! — отчаянно закричал Денисов, на мгновенье трезвея от ужаса. — Ты, сволочь, в старое время… на балах вертела хвостом с почетными гражданинами, а меня столяр по роже! Ты трудовой пот пила, ты по заграницам, в жизни палец о палец, всяко разно разврат! Ты на хребте сидела, а сама теперь спрашиваешь, за что! Я в депо паровозном, в копоти, а ты бульон ела и шоколад в чашке! Прости, прости, Христа ради! Сам не знаю, что говорю. Забери только меня, забери, не могу я больше в чужих людях…
Коля думал, что она его пожалеет, но баушка посуровела.
— Ты что ж на старую кричишь, Коля? — спросила она густым голосом. — Или ты, Коля, судить кого поставлен? Ты штаны намочил, у тебя уши немыты. Тебя драть и драть еще, а ты стариков мучишь. Жалобиться хочешь? А нас не жалко тебе, судья праведный? Эх, соплежуй, на кого руку поднял! На Божьих людей замахиваесся? Куда глаза прячешь, на меня смотри!
Денисов поклялся бы, что вместо глаз у нее были теперь две дыры, откуда так и веяло геенским жаром.
— Твой Божий человек грабил тебя! — заорал он, злясь на собственное бессилие. — Тебя же и грабил твой Божий человек, серебро, телятина! Ты ему — Божий человек, а он — телятина!
— А и что ж! — не сдавалась покойница. — Моя телятина, хочу дам, хочу не дам. Он серебро для дела брал, а ты в ящике держишь. Отдай серебро!
— Не отдам!
— Отдашь! Все отдашь! Кто у отца табак воровал? Мало тебя бил столяр, мало! Надо тебя было так драть, чтоб до самой до Америки задал лататы, сопля таганрогская! А ну встань, отомкни да выведь меня отсюда!
Денисов с силой ущипнул себя за левую кисть и вызвал конвой. Когда Пестереву уводили, он смотрел в стол. Следующий допрос он отложил и помчался к Гольдштейну.
— Товарищ старший следователь, — сказал он. — Обвиняемая Пестерева владеет даром гипноза. Я без ущерба для ума с нее снимать показания не могу.
— Уполномоченный! — иронически протянул Гольдштейн. — Упал намоченный!
Это было ужасно, но Денисов решил вытерпеть все. Перспектива снова предстать перед Пестеревой была хуже.
— Откуда у нее дар гипноза? — презрительно продолжал старший следователь. — Гипнозу учатся годами в особых клиниках. Она у Фройда обучалась, может быть, твоя Пестерева? Женщин-гипнотизеров в Европе единицы, а советского вузовца Денисова заворожила дочь почетного гражданина! Она пассы вам делала? Руку на лоб клала, так?
— Она мне ничего не делала, — обидчиво отмел Денисов неприличные предположения начальства, — но я с точностью чувствовал гипноз и прошу хотя бы вашего присутствия…
— Учись, уполномоченный, — усмехнулся Гольдштейн и велел доставить обвиняемую.
Пестерева только успела пообедать зловонным гороховым супом с ломтем сырой буханки, как ее снова потянули на Шпалерную. На этот раз унучок сидел в углу, а за столом вольготно расположился толстый еврей, о котором она слышала от сокамерниц. Он был очень зол и явно настраивался на показательный триумф перед унучком. Случай был трудный.
— Здравствуйте, офицер, — сказала она светски.
— Не офицер, а гражданин старший следователь, — ледяным тоном отвечал Гольдштейн. — Извольте обращаться по форме.
Она отметила это «извольте».
— Как вам будет угодно.
— Это угодно не мне, таковы правила.
— Прошу простить меня, господин старший следователь.
Он не поправил, удовлетворенно подумала Пестерева. Проглотил «господина». Понятно, о чем ты мечтал у себя в хедере.
— Мне стало известно, что вы прибегаете к особым техникам, — хмуро произнес Гольдштейн. Кричать сразу не следовало, все-таки дама, чувствуется порода. — Я рекомендовал бы вам разоружиться перед следствием.
— Никаких особых техник, господин старший следователь, и никакого персонального дара, — улыбнулась Пестерева. В молодости, должно быть, многих сводила с ума такой улыбкой, да теперь уж не то, матушка. — Вам лучше других должно быть известно, что люди моего круга с каждым считают обязательным говорить на его языке, это правила хорошего тона, а вовсе не гипноз.
— Под следствием все обязаны разговаривать на одном языке, — глядя в стол, предупредил Гольдштейн.
— Вам как офицеру, следователю, но офицеру, — с нажимом повторила Пестерева, — лучше других должно быть известно, что этикет так просто не отбросишь, это не маскарадный костюм, не хлыстик… С крестьянским мальчиком принято говорить не так, как с высшим офицерством, и вы должны, слышите ли, должны извинить меня за то, что женщина, хоть бы и старуха, узнает в вас рыцаря, а не допросчика.
Грубейшей ошибкой было бы говорить с ним на местечковом диалекте его детства — но Пестерева не сделала этой ошибки. Люди ее круга с первого взгляда отделяли тех, для кого детство — омут чистой глубины, от тех, для кого оно позор и тягость, родовое проклятье изгойства и нищеты. Конечно, он был сыном портного. Конечно, он был из Петербурга. И всеконечно, он смотрел на гвардейские парады, мысленно отрекаясь от иудейства, обещая отдать все, что у него было, — отца, мать, десятки портновских поколений, — чтобы стать одним из этих сверкающих кентавров.