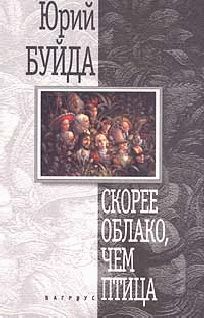Юрий Буйда - Все проплывающие
Похоронив дочь, он ушел. Люди и чудовища, населявшие Гертрудины сновидения, выбрались в ее дневную жизнь, и она, кажется, даже не заметила исчезновения мужа. Каждое утро она ставила на тумбочку у изголовья голубую тарелку с алым сочным яблоком, которое сморщивалось и сгнивало, прежде чем она успевала закрыть за собой дверь.
Изможденный старик в истрепанном пальто прошагал сотни километров, питаясь подаянием в толпах инвалидов и ночуя где придется, и однажды в полдень толкнул дверь в библиотеку поместья Ламеннэ, чудом сохранившуюся, даже с книгами на полках, – правда, это были совсем другие книги. На каминной полке стояли часы. Он нажал потайную пружинку, достал из углубления ключ и завел часы, звонко пропевшие фрагмент знаменитого бетховенского финала. Испитая девушка, служившая в этой сельской библиотеке, изумленно взирала на уродливого старика, подслеповато помаргивавшего у камина. Путаясь в словах, он спросил о судьбе барской библиотеки. Пожав плечами, девушка отперла клетушку, где были свалены тома с золотыми и лиловыми обрезами. Сергей Иванович безошибочно извлек из кучи том большого формата. Открыл книгу, прочел:
Freude, Freude treibt die Räder
In der großen Weltenuhr…[3]
И только после этого обратил внимание на полустертую карандашную вязь. Он приладил свою часовую лупу и узнал почерк младшей сестры Веры. Она писала в никуда, адресуя свое послание ему, Сергею Ламеннэ: «Милый Сережа, я так и знала, что когда-нибудь ты откроешь Шиллера на этом месте и прочтешь мою записку. Маму и папу они уже расстреляли во дворе за клумбами. Со мною, Катенькой и Любашей бог весть что станется, но вряд ли мы избегнем… Помнишь ли, как плакали мы над этими строками? Это было вечность назад. Глупые мечтатели, глупые гимназисты! И все же я испытываю странную радость и веру в то, что Он не оставит нас и эту страну, этот народ, и Его радостью соединятся живые и мертвые, правые и виноватые, и мир устоит, устоит, Сережа! Прощай, Сережа, прощай, милый, молись за нас, как мы молим Бога о тебе. Шиллер будто прозрел нас и сберег нас и нашу веру для будущего. Я целую краешек этой страницы. Кажется, уже. Прощай».
Сергей Иванович вдруг понял, что бездна времени, разверзшаяся перед ним, страшнее бездны вечности. Жизнь показалась ему чем-то столь же далеким и чуждым человеку, как его душа. Ему захотелось умереть – тотчас, сразу, мгновенно, и было мучительно сознавать, что это невозможно. Он поцеловал краешек страницы, исписанной вкось – через немецкие буквы – по-французски карандашом.
С книгой под мышкой и лупой на лбу он вышел из дома, спустя несколько часов был арестован и вскоре расстрелян. Книга и немецкое удостоверение личности были приобщены к делу как вещественные доказательства.
Гертруда продолжала жить среди чудовищ, тикающих часов и тарелок с гниющими яблоками. Вся ее жизнь сжалась в один день, еще тридцать лет клонившийся к закату. Потешая новых – русских – жителей городка, прозвавших ее Веселой Гертрудой, она часами приплясывала на одном месте, монотонно напевая: «Зайд умшлюнген, миллионен…» Она жила среди людей и чудовищ из сновидений и потому и не заметила прихода смерти, открывшей дверь в мир, где ее ждал Миша, ждал Гуго, ждала Луиза, ждал, наконец, Бог радости, так и не научившийся немецкие сны отличать от русских…
Чужая кость
…Присоединись ко мне в вознесении благодарностей, ты, ставшая моей подругой и в грехе, и в прощении.
Абеляр – Элоизе, письмо IVПосле двух ожесточенных штурмов городка и прорыва танкистов к дорогам на Кенигсберг поредевший полк майора Лавренова оставили в тылу, а его самого наскоро назначили комендантом взятого городка у слияния рек Прегель и Алле – горы битого кирпича, над которыми еще не рассеялись клубы дыма после двухдневного артобстрела и массированного налета английских бомбардировщиков с Борнхольма.
Майор занял более или менее сохранившийся дом пастора, где доживала свой век полуслепая старуха-вдова, – массивное двухэтажное строение красного кирпича, с просторным кабинетом, уставленным книжными шкафами, и просторной же гостевой спальней наверху, обычно пустовавшей и служившей хранилищем для яблок, сложенных в прорезные ящики. Старуха пообещала привести свою племянницу, которая приготовит спальню и будет прислуживать господину майору, если тому будет угодно.
– Три дня отдыха, – приказал Лавренов своему начштаба. – И готовься к приему пополнения. – Он остановился перед книжным шкафом, провел пальцем по тускло-золотому корешку.
«Historia calamitatum mearum» – «История моих бедствий» Пьера Абеляра. Рядом том Грегара «Lettres complète d’Abelard et d’Hèloïse».
– Любопытно. Но холодно. Пусть затопят камин… или что тут… печки?
Он поднялся в комнату с незанавешенными окнами, в которые било яркое весеннее солнце, где головокружительно пахло яблоками, отодвинул ящики, снял шинель и сапоги и в одежде лег ничком на широкую деревянную кровать, уткнувшись лбом в резную высокую спинку, и мгновенно заснул.
Он спустился вниз под бой часов.
Из кухни пахло едой.
Рослая синеглазая девушка с широким лбом и бледным лицом, окаймленным чуть вьющимися каштановыми волосами, расставляла приборы на столе, накрытом чистой скатертью, и при виде майора сделала книксен.
– Надо перевести часы, – хмуро сказал майор. – Разница с Москвой – час сорок девять минут.
Девушка кивнула.
Пасторша больше мешала, чем помогала повару, который, вполголоса чертыхаясь и легонько отталкивая старуху локтем, быстро разложил еду по чистым тарелкам.
– Свободен. И дай им чего-нибудь… консервов, масла, сгущенки, хлеба… и мыла!
Он налил из своей фляжки в узкий хрустальный бокал, залпом выпил и, не обращая внимания на женщин, набросился на еду. Старуха и ее синеглазая племянница с интересом наблюдали за тем, как майор ловко управляется с ложками, вилками и ножами: наверное, они были убеждены, что варвары едят руками.
Солдаты принесли консервы и мыло.
Старуха, наконец сообразив, что все это ей и племяннице, принялась путанно благодарить господина офицера, который после сытной еды и выпивки – он пил чистый спирт – сонно смотрел на ее испятнанное мелкими родинками лицо.
Девушка спустилась в столовую и с книксеном сообщила, что приготовила спальню для господина майора.
– Как вас зовут? – Он налил себе еще спирта и выпил, после чего наконец закурил папиросу.
– Элиза, – ответила пасторша. – Ее предки из старинной гугенотской семьи… – Старуха вдруг улыбнулась: – Настоящее ее имя – Элоиза.
– Вы замужем?
– Нет, господин офицер. Мой жених погиб на фронте. В Африке.
Он смотрел на нее тяжелым взглядом.
– Помойте ноги.
Девушка посмотрела на тетку, но та лишь пожала костлявым плечиком.
– Здесь, – уточнил майор, пыхнув папиросой. – Пожалуйста.
Девушка принесла в тазе теплую воду, чуть приподняв юбку, села на табурет и осторожно опустила узкие ступни в воду. Сжав юбку коленями, стала намыливать ноги.
Майор не шелохнувшись наблюдал за нею.
Наконец она вытерла ноги полотенцем, которое принесла из ванной старуха, надела туфли и посмотрела на офицера. Он выпил спирта и встал.
– Спасибо. Я пойду спать.
– Il c’est insensé[4], – прошептала старуха.
– Peu probablement, – возразил майор, уже ступивший на лестницу. – Je suis la derniér des hommes… homme épuisée… seulement, mademoiselle Héloïse… Просто у вас очень красивые ноги. Très joli[5].
Широкая кровать с аккуратно – углом – откинутым одеялом слепила взгляд белизной белья. Чертыхнувшись, Лавренов разделся и лег под пуховик.
Пахло яблоками.
Майор спал.
На следующий день за завтраком пасторша, не поднимая глаз на офицера, смущенно проговорила:
– Господину майору, вероятно, нужна женщина. Элиза…
– Не нужна. – Лавренов мотнул головой. – Ни вы, ни Элиза, ни черт, ни дьявол…
– У меня есть сестра, – донесся сверху голос Элизы, которая, убрав в комнате майора, вышла на галерею, опоясывавшую столовую на уровне второго этажа. – В отличие от меня она стройная, худенькая и…
Майор закурил и с интересом уставился на Элизу. Лицо ее было бесстрастно.
– Милые дамы, – наконец сказал майор. – Я трижды ранен и дважды тяжело контужен. Мне хочется спать, и мне не нужна женщина вообще. Мои жена и дочь погибли в блокадном Ленинграде от голода. Соседка рассказала мне, что, когда девочка просила есть, жена слегка надрезала вену и давала ей попить теплой крови, а потом аккуратно заклеивала ранку. До следующего раза. Их похоронили в огромной братской могиле. – Он помолчал, задумчиво глядя на кончик дымящейся папиросы. – Я не думаю, что в этом виноваты вы или даже ваш африканский жених, фройляйн. Война… – Он встал. – Извините, но я ранен в голову и хочу спать. А продукты и мыло у вас будут и без этого… и у вашей сестры тоже… Извините.