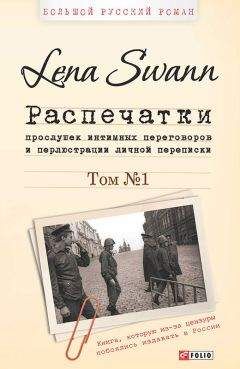Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
В блокноте листки, как она прекрасно знала, исписаны были уже абсолютно все — и даже на самом-самом последнем, еще недавно пустовавшем, красовался эскиз Рижского Домского собора, сделанный ею на Баховском концерте, изнутри.
Елена открыла висевшую на шее ченстоховскую сумочку-кармашек, и извлекла единственный обнаруженный ею там кусочек бумажки: а именно их проездной документ — заверенный нотариусом, аккуратненько сложенный вчетверо, список группы:
— Как ты думаешь, ничего, если мы вот здесь вот… на обороте? А? Перевод набрасывать будем… — и доставала уже для Влахернского ручку.
Но тот внезапно развопился:
— Нет! Мы не будем ничего записывать! Только сразу, с лёту! Мы же договорились же! Такие правила игры! Всё! Готова концовка! Слушай:
Кто за́мка не имеет днесь — тот завтра вряд ли хижину построит. Кто ныне одинок — надолго осужден таким остаться: он ночью будет спать. И даже видеть сны. И просыпаться. И ждать, пока деревья снова станут распускаться. Вне покоя.
Дождавшись развязки, Елена покусилась было поскорей выдрать разлезающийся уже в его лапах блокнот.
— Ну уж нет! — хищно вцепился Влахернский в игрушку. — Чур, я теперь для тебя выбираю — а то ишь ты — издеваться надо мной! И переводи с лёту, как есть, не смей записывать! Вот, вот, это вот, давай хотя бы маленькое! Вот это!
— Слышишь, любимый… — перевела, «как есть» Елена простенькое начало.
— Постой-постой! Geliebte! Это же ведь женский род! Он же к любимой девушке обращается!
— Заткнись, пожалуйста. Не перебивай! — Елена, отпихивая и прогоняя пальцы Влахернского со странички, как каких-то наглых насекомых, наступая на них, давя их своими ногтями, все-таки исхитрилась блокнот выцыганить. — Всё! Отдал мне — теперь это мое дело, как переводить. «Днесь» несчастный! Я ж не лесбиянка, чтоб к «любимой» в стихах обращаться! Будет мужской род… Всё, не перебивай… — зажав блокнот в правой руке, и уже в него не смотря, она высунулась в окно, и, сглатывая ветер, повторила:
— Слышишь, любимый, взнимаю я руки…
— Что за глагол такой у тебя: «взнимаю»?! Нет такого глагола! — Влахернский удобно устроил оба толстеньких локотка на раму окна и тоже выложил морду на ветер.
— А у Даля он есть! И вообще — как я сказала, так и будет.
— Да нет, ну что это значит взнимать?! — Влахернский не унимался, явно все еще дуясь за ее критику.
— Ну не совсем же ты идиот, Влахернский, чтоб не понимать, что это значит?! — развернулась к нему в игровом запале Елена. — Ты мне всё своего «щаз» простить не можешь?! Мелкая месть!
Влахернский тыркнулся опять было своими пальчиками и носом в блокнот — что-то ей показать и доказать, — но был грубо от литературных источников отрезан.
— Все, Илья! Не смотри в блокнот больше! Смотри на руки!
Отвернувшись, аннигилируя Влахернского окончательно, Елена высунулась в окно почти по пояс и громко выговорила:
Слышишь, любимый: взнимаю я руки — слышишь ли звук? Жест одинокий, рождающий звуки, слышат все вещи вокруг…
Дирижерски вскинув расслабленные руки на волну встречного ветра, она доходчиво показала, что значит «взнимать». И в эту же секунду их единственный документ, список, заверенный нотариусом, до этого не слишком изящно зажатый у нее между левым мизинцем и безымянным, был вырван у нее ветром — на долю секунды ожил, затрепетал — зрелищно, но молниеносно быстро, белой птицей пропорхнул перед носом Влахернского и исчез в темноте.
Елена и Илья — открыв рты, оба с каким-то одинаковым, эстетского рода восторгом от произошедшего: «Этого не может быть!» — застыли. Второй реакцией — накрывшей через несколько секунд — было оглянуться, не идет ли со своей кружкой Воздвиженский, — и, с расчётом его опередить, броситься с повинной в купе.
— Давай я скажу, что это я потерял?! — семеня за Еленой по коридору, почему-то виновато бормотал Влахернский: благородство его сияло просто-таки на недосягаемых высотах тамбурных лампочек — особенно после игровых обид.
Но Елена уже рванула дверь в купе:
— Оля, Марьяна, вы будете смеяться, но у меня только что улетел в окно наш список. Счастье еще, что блокнот со стишками Рильке не выронила!
— Только Воздвиженскому не говорите! — в один голос выпалили вдруг разом все четверо.
— Честное слово — это было красиво: я просто руками взмахнула — буквально на пальцах показывала одно слово… у нас с Ильей чисто филологический спор возник…
— Ведите себя как ни в чем не бывало! — быстро взяла режиссерские функции на себя Лаугард, — у которой было вытянулось на секундочку в ужасе лицо, но опереточные подробности, кажется, не то чтобы примирили ее с катастрофой — но хотя бы заставили заценить красоту произошедшего. — Улыбайтесь! Надо вести непринужденный разговор. А то сейчас Воздвиженский нам такой скандал тут закатит! Потом, без него все обсудим.
И еще через несколько секунд неожиданно твердо выдала:
— Ладно, не волнуйся, Лен. Чё-нить придумаем! Найдем решение… Сходим в посольство, в конце-то концов. Не смертельно. Расслабься.
— А что за станцию мы проезжали? Кто-нибудь запомнил?! — воодушевился вдруг оригинальнейшей идеей Влахернский. — Может быть, сейчас, сразу же, на следующей остановке вылезем — и найдем?
— Щаз! Днесь! Щаз мы прям — пойдем по откосам ползать! Отличная мысль, Илья! — уже не просто «успокоилась» и «расслабилась» (как просила Лаугард), а откровенно хохотала Елена. — Главное — записать название железнодорожной станции, где все произошло — это же как водится, в истории!
— Влахернский, немедленно оставь в покое лямки рюкзака, сядь, и улыбайся! — инструктировала режиссер Лаугард. — Сядь вон туда к окну и займи непринужденную позу. Главное — сейчас, когда Воздвиженский войдет, говорить и выглядеть всем как ни в чем не бывало! — Лаугард и сама села, чуть вздернув нос, сложив ручки паинькой на колени, посматривая, кокетливо, на дверь, и поигрывая головой и плечами как будто балансирует какую-то маленькую старинную плоскую шляпку на макушке. — Надо говорить о чем-нибудь нейтральном… Вот, Марьяна сейчас тут без вас рассказывала, что ее в детстве, оказывается, тайно крестила бабушка. Давай, Марьяна, расскажи, что дальше!
— Да! — простосердечно и робко подтвердила Марьяна, чуть встревоженная общим кавардаком — но тут же послушно успокоенная уверенной маскировочной деятельностью Ольги. — Я и вообще не знала об этом, до недавнего времени… Надо же вот так, как произошло, что я сюда с вами поехала… Я ведь никогда о вере толком и не думала раньше…
В двери́, чуть качаясь, появилась кружка Воздвиженского:
— Марьян-Марьян! Давай, расскажи: и что? Что дальше? А бабушка-то сама в церковь ходила? — подначивала застенчивую рассказчицу Лаугард.
— По откосам… — вдруг прыснул в кулак Влахернский, памятуя обещанное обшаривание железнодорожных путей в темноте.
Ольга, всё не теряя надежды постановочно выстроить правдоподобную оживленную беседу, громко, забивая сомнительные подхохатывания Влахернского и отдельные всхлипы Елены, скрипуче, дикторским голосом, подстегивала побочный сюжет:
— Ну, Марьян?! — и трясла ее за руку.
— Ну да, ходила иногда — по праздникам… — растерянно, не зная, куда в этой нависающей грозе ей пристроить свой жаворонковый тембрик, крадучись продолжала Марьяна. — А потом перестала ходить… дедушка ей обещал фингал набить, если еще раз пойдет — сказал: «Ты что, хочешь, чтоб нас всех с работы из-за тебя выгнали и на канатчикову дачу отдыхать отправили?»
— Дедушка, говоришь, ей фингал набить обещал?! — в восторге переспросила Лаугард. — Ой, не могууу! — и под прикрытием этой малосмешной информации сама уже начала кудахтать от смеха.
— Что это с вами? — Воздвиженский напрягся.
Сделал еще один шаг, внутрь купе, прижав кружку к животу. Резко и неодобрительно, как в прицел, обвел глазами всех по кругу, по часовой стрелке: сначала Елену, потом Влахернского, потом Ольгу, потом Марьяну. Которых уже прорвало — причем сквозь громогласный гогот пробивались еще, доходчиво и доверчиво довешиваемые Марьяной, подробности из нелегкой атеистической жизни семьи.
— Что это вы все такие веселые? — Воздвиженский, не отнимая кружку от пуза, пристально перемалывая всех глазами, сделал еще один шаг внутрь купе, как в засаде, озираясь, прищурился — и вдруг быстро крутанулся, и, в упор, как в бешенной рулетке, выпучился на виновницу:
— Лена? Ты, что, наши документы потеряла?!
Слёзный хохот уже выпростался, наконец, из малопристойного прикрытия: Ольга — как некогда пребывавшая в партии сомневающихся «ехать или не ехать в Кальварию», до того как Елена выправила эту (потерянную теперь ею же) бумажку, — взяла миротворческие функции на себя.
— Да ладно, Саш, чего ты так напрягся? Все поправимо! Не сталинское же время сейчас, в конце-то концов. Что за трагедия?