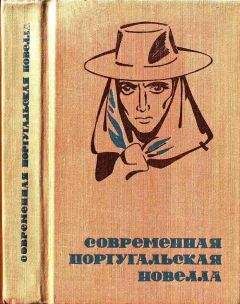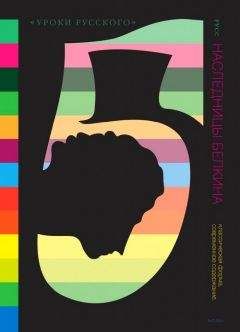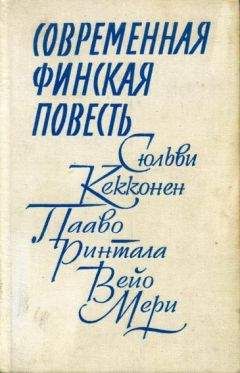Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Быть может, когда-нибудь я приду в Царство Мглы — к источнику, из которого широкой волной разливается мгла, и она окутывает все, чтобы потушить свет.
Все верно. Уф! Она было с облегчением вздохнула, но внезапно услышала продолжение священной формулы из уст Мы-я, и вот эту формулу он уже произнес с искренним чувством:
— Мы должны прийти туда вместе. Дай я помогу тебе выйти из-под земли. Ты похожа на растение с длинным стеблем. С сегодняшнего дня ты будешь моим товарищем. Только от меня ты будешь получать — не приказы, потому что мы никому приказов не даем, — но напоминания о миссии, порученной тебе во время Окончательного Посвящения.
На языке у Ты-никто вертелись заученные слова, и она тотчас проговорила их, не замечая их загадочности:
— Надеюсь, что мне не велят украсть красоту у Прозерпины («Что за дикий вздор!» — осмелилась подумать она про себя, будучи в глубине души счастлива, что приспосабливается к этому разговору.)
— Ты и есть наша новая Прозерпина, — уверенно объявил Мы-я. — Я собираюсь вырвать тебя из земли, чтобы ты озарила ад, в котором живут люди. И указала им путь.
Оба они не выдержали и весело расхохотались, потому что в конце концов оба наизусть знали эту ненужную последовательность фраз неизменного обряда Посвящения, взятого из великой Книги Магии Живой Мглы.
— Указала им путь? А куда?
Мы-я замолк: он уже летел вместе с Ты-никто. И, уста к устам, сливаясь, сплетаясь телами, они любили друг друга в красном, огненном облаке, стоявшем над миром, который изо дня в день созидали живые мертвецы.
— Замечай тех людей, которым ты должна указывать путь, — сказал Мы-я.
— Я их не вижу.
— Я научу тебя видеть их. Во-первых, выбрось свой правый глаз.
Ты-никто послушалась его. Она подняла веко и ловким движением своих волшебных пальцев вытряхнула из орбиты правый глаз, который с головокружительной быстротой полетел к земле, держась на одной лишь нити густого тумана. И на бескрайней снежной равнине, где росли молчаливые сосны, где часы не желали показывать время, она увидела сани; их тянул скелет лошади, заблудившейся в вечной белой ночи без путей и дорог.
Потом Ты-никто выбросила левый глаз и разглядела деревенскую дубовую повозку, колеса которой грохотали так, что камни — и те бы проснулись.
На дне телеги спали два старика, по горло сытые скукой жизни; у одного из них была деревянная нога. Между ними лежал поэт, который бодрствовал, ибо он был поэт и не мог забыть своих обязанностей по отношению к звездам: «Привет вам, среброокие девчушки!» Но к середине молчаливой ночи начало клонить в сон и его. И тихонько, чтобы не задеть своих спутников, которые, похрапывая, упивались размеренным оцепенением, прообразом смерти, уготованным им судьбой, поэт опустился на колени, пристраиваясь на тюфяке, лежавшем на дне повозки, и похлопал по плечу возницу, желая ободрить его и поддержать; возница, не обращая внимания на беспорядочный скрежет гальки, сидел на облучке безмолвно и прямо, словно привинченный.
Но — люди добрые! — возница тоже спал! Спал и правил, крепко держа вожжи в безвольных руках, которые подрагивали в такт угрюмой поступи сонной лошади, помахивавшей хвостом.
По левую сторону от дороги был крутой обрыв двадцатиметровой высоты. Бездна, ощерившаяся черными зубами. Она ждала.
И все эти существа с закрытыми глазами спали. Лошадь, кучер, старики и даже внезапно погасшие звезды.
И тут потихоньку, соблюдая все предосторожности, чтобы не потревожить неподвижные тела своих спутников, Бодрствующий растянулся на тюфяке и, в свой черед, заснул в слепой телеге, трясущейся в слепой ночи.
V
Теперь нагие Мы-я и Ты-никто, держась за руки, шли по городу, затерявшись в толпе слепых, которые брели ощупью и которые, однако, благодаря несуществующим разноцветным приспособлениям были уверены, что глаза у них есть и что они видят действительность такою, какою им надлежит ее видеть.
— Возможно ли, чтобы я вот так вот расхаживала нагишом! — внезапно воскликнула Ты-никто в тот момент, когда ее дыхание коснулось какого-то молодого человека, который вдруг замер в таком восторге, словно дотронулся до тела женщины.
— Знаешь, кто это? — улыбнулся повеселевший Мы-я. — Это боец Тайной Армии — самое высокое звание в нашем Обществе.
— И он нас не видел?
— Нет. Он ослепил себя, чтобы ничем не отличаться от несчастных, живущих на земле, и претерпеть безымянное страдание человечества. Он хочет испытать это страдание на себе, а не в воображении.
— Так кто же мы такие — мы с тобой? Боги? — насмешливо и грустно спросила Ты-никто.
— О нет! Скорее мы священные стражи Надежды и Любви. Особой любви, любви, состоящей из братства и стремления к самопожертвованию, — с ее помощью мы врачуем раны Бойцов и утоляем химерами голод временно побежденных (окончательного поражения мы не знаем никогда). Быть может, на самом деле нас и не существует. Мы лишь не даем погибнуть мечте окружающих нас людей, принадлежащих иной реальности. Куда более трагической, чем наша, уверяю тебя.
Ты-никто не смогла подавить вздох:
— Поверишь ли: я тоскую по этой реальности.
— По тем временам, когда и ты была слепа, Прозерпина? — сурово, почти осуждающе спросил Мы-я.
— Да. Я тоскую по тому времени, когда я не хотела ни сама кого-то спасать, ни чтобы меня спасали.
Но лукавица тотчас переменила тему разговора:
— Как зовут того молодого человека, с которым я столкнулась?
— Это Эрминио-Велосипедист, Гермес, как его звали в то время, когда он был на предпоследней ступени Организации; это наш. Лусио назначил в этом месте Эрминио встречу. Бедняга Лусио! Перед самой встречей его схватили ищейки Силведо, а Эрминио не знает об этом. Кстати: не забывай, что это твое первое задание: ты должна посетить Лусио. Уже неделю он сидит в ужасном склепе Алжубе. Его снедает лихорадка в сырой тьме тюремной камеры, в которой два метра в длину и полтора в ширину. Он совсем один. Без часов, без календаря, в аду крысиного визга. А между тем за стенами камеры люди, которые считают себя нормальными, дышат, танцуют, смеются так, словно солнце обязано рисовать для них цветы, а ночи, когда светит полная луна, обязаны завораживать их губы, чтобы они могли целоваться вволю, словно отделившись от лица. Лусио ждет тебя в клетках Алжубе. Скорее, Прозерпина! Скорее, Госпожа Мечта. Ты не имеешь права терять время!
— Вперед! Вперед!
И они мчались… летели.
Ветерок, внезапно повеявший из туннеля метро, растрепал волосы Эрминио-Велосипедиста.
«У меня возникла нелепая мысль, что моих волос коснулось дыхание какого-то невидимого существа. Подумать только, какая чушь! Должно быть, я устал. Уже больше часа я поджидаю Лусио. Не будь поручение таким срочным, я бы уж давно улетел. Хоть бы он не задерживался! Не хочется мне заходить в дом и вызывать у Лусио почти патологическую ревность. Он и так не доверяет нам с Леокадией. Это невероятно! Не доверять Леокадии, которую все мы зовем товарищ Верность! Остается только ждать. (Ужасно ждать!) И снова наплывает на меня чувство одиночества, которое постепенно — и с каким трудом! — мне удалось смягчить, превратить его в братство — очень может быть, что в конце концов это и есть истинная причина того, что я примкнул к Организации-Название-Которой-Не-Произносится-Вслух. Но в такие мгновения, как это, ко мне опять возвращается мое прежнее одиночество — одиночество эгоиста, более острое и властное, нежели когда бы то ни было, передающееся, как и электрический ток, от одной одинокой тени другой одинокой тени, — эти тени скрещиваются на площадях и узких улочках».
Быть может, это и была та сила, которая заставила одну девушку подойти к Эрминио — ей хотелось услышать свой голос и увериться в том, что она существует. (Какая-нибудь полицейская осведомительница. Кто знает? Не доверять. Никому никогда не доверять. Силведо соткал сеть, затягивающуюся вокруг мира!)
— Вы не скажете, который час?
«Так как я не ношу часов, я стал припоминать. Или, вернее, я решил вычислить: когда я вышел на Россио, на колокольне Монастыря Кармо пробило десять. Потом, на станции метро Реставраторов, часы показывали четверть одиннадцатого. А совсем недавно, в парикмахерской, было без десяти одиннадцать. Отлично».
— Должно быть, часов одиннадцать. Что-то около того.
— Спасибо, — поблагодарила девушка, с улыбкой проверяя свои часы одиночества.
И пошла своей дорогой.
Эрминио сделал было несколько шагов в другую сторону, но повернулся и пошел за девушкой, чтобы проследить за ней. Он увидел, что она снова остановилась, — вне всякого сомнения, затем чтобы задать все тот же вопрос (ей хотелось поговорить! ей хотелось поговорить!) старичку с неуклюжей походкой, в ярком галстуке, с крашенными в белокурый цвет седыми волосами.