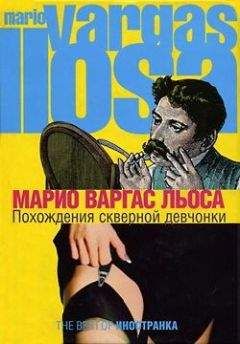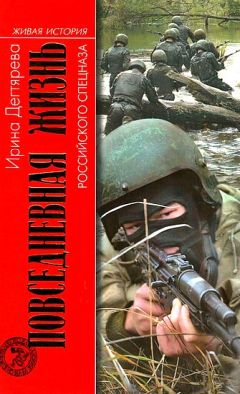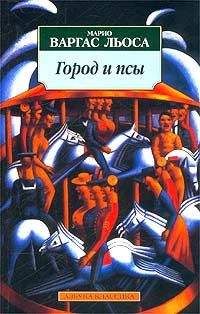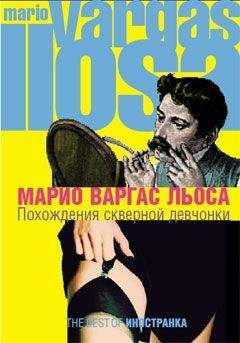Марио Льоса - Война конца света
Не удивительно ли, что люди, ежеминутно рискующие головой, вместо того чтобы очистить, освободить душу от всего низменного и пошлого, корыстны, жадны и алчны даже перед лицом смерти? «В последнюю, быть может, минуту своей жизни они все-таки помышляют только о наживе, о том, как бы скопить побольше, продать подороже, и мерзкий дух чистогана снедает их», – думает Теотонио. За несколько последних недель его идеальные представления о человеке безжалостно и грубо растоптаны.
Тихий плач, раздавшийся у самых его ног, отвлекает Теотонио от этих мыслей. Рядом стоит на коленях старый солдат-не в пример другим, он плачет почти беззвучно, точно стыдясь своих слез. Он не выдержал зуда.
– Нет больше сил терпеть, сеньор доктор, – шепчет он. – Расчесал. Бог с ним, пусть будет что будет. Мочи нет.
Этот солдат стал жертвой черных муравьев-какарем, которыми мятежники довели до исступления уже многих и многих патриотов. Поначалу казалось вполне естественным, что с наступлением ночи муравьи, спасаясь от холода, заползают в палатки и кусают спящих солдат – место укуса сразу же вспухает, начинает гореть и чесаться. Однако вскоре выяснилось, что муравьи не сами собой появляются в лагере: мятежники подтаскивают круглые глиняные муравейники поближе и разбивают их с таким расчетом, чтобы эти кровожадные твари двинулись прямо на патриотов. Обнаружилось еще, что дело это поручено детям и подросткам! Одного из них схватили, и Теотонио узнал, что маленький разбойник бился в руках солдат как дикий зверь и осыпал их бранью, которой позавидовал бы любой каторжник.
Подняв рубашку, Теотонио осматривает грудь солдата: там, где вчера подсыхали лиловые корочки, сегодня появились алые язвы с набухшими гноем пустулами. Да, вот они, они плодятся и множатся, разъедая тело бедняги. Теотонио Леал Кавальканти уже научился скрывать правду, обманывать, улыбаться. Он говорит солдату, что укусы заживают, надо только не расчесывать их; он дает ему полстакана воды с хиной и обещает, что от этого средства зуд стихнет.
Обход продолжается, и юный врач думает о детях, которых эти выродки заставляют по ночам подтаскивать муравейники к лагерю. Только бесчувственные дикие варвары способны так развратить невинные души! Потом он принимается размышлять о Канудосе: в самом ли деле его защитники хотят восстановить монархию? Правда ли, что они в сговоре с династией Браганса и рабовладельцами? И неужели они действительно всего лишь послушное орудие коварного Альбиона? Теотонио своими ушами слышал, как они кричат «Долой Республику!», но теперь он уже ни в чем не уверен, все перепуталось… Он ожидал увидеть здесь английских офицеров-инструкторов, обучающих мятежников обращению с современнейшим оружием, тайными тропами доставленным сюда с баиянского побережья, но на теле тех, кого он лечит – делает вид, что лечит! – он видит укусы какарем и раны, нанесенные отравленными дротиками и стрелами, заостренными камнями, выпущенными из пращей эпохи палеолита! Плохо верится, что монархическая армия, обученная англичанами, снабжена этим оружием троглодитов. «Перед нами просто кровожадные дикари, – думает он, – и все равно мы проигрываем кампанию, и нас давно бы уже разбили, если б Вторая колонна не подоспела на выручку, когда мы застряли в этих горах». Как понять все это? Кто растолкует ему все эти несообразности?
«Теотонио?» – окликают его, и врач останавливается. По шитью на воротнике истлевшего мундира еще можно узнать чин этого раненого и часть, в которой он служил: лейтанант Девятого пехотного батальона, лежит в госпитале с того дня, когда Первая колонна ворвалась на Фавелу. Он был в авангарде Первой бригады, это их погнал полковник Жоакин Мануэл де Медейрос в бессмысленную атаку на Канудос. Невидимые и неуязвимые мятежники, притаившиеся в своих звериных норах, перебили тогда почти весь отряд: до сих пор валяются тела солдат на середине откоса – там, где их остановили пули. Лейтенант Пирес Феррейра в том бою ослеп и потерял обе руки. Шел только первый день боев, морфий еще был, и капитан Алфредо Гама, перед тем как наложить швы и обработать иссеченное осколками лицо, сделал ему укол. Повезло лейтенанту и в том, что на раны его хватило бинтов и они закрыты от пыли и насекомых. Это удивительный человек: ни разу не слышал от него Теотонио ни стона, ни жалобы. Каждый день на вопрос, как он себя чувствует, лейтенант отвечает: «Хорошо». «Нет», – односложно произносит он, когда его спрашивают, не надо ли ему чего-нибудь. По ночам Теотонио приходил к нему, присаживался у изголовья и, глядя на россыпи звезд в ночном небе над Канудосом, заводил разговоры. В одну из таких ночей он и узнал, что лейтенант Пирес Феррейра-ветеран этой войны, один из немногих, кто принимал участие во всех четырех экспедициях, отправленных правительством против мятежников. Тогда ему и стало известно, что постигшая этого несчастного трагедия-лишь последнее звено в цепи унижений и неудач. Теперь-то врач понимает причину снедающей лейтенанта тоски, понимает, почему так стоически переносит он муки, от которых всякий другой потерял бы и достоинство, и человеческий облик. Самая тяжкая рапа у него в душе.
– Теотонио? – повторяет Пирес Феррейра. Половину его лица скрывают бинты, но рот и подбородок свободны.
– Да, это я, – отвечает тот, садясь рядом, и жестом отпускает сопровождающих его санитаров с аптечкой и бурдюками. Отойдя на несколько шагов, оба кладут свою ношу наземь. – Я посижу с тобой немножко, Мануэл? Не нужно ли тебе чего-нибудь?
– Нас никто не слышит? – тихо спрашивает раненый. – У меня к тебе разговор по секрету.
В эту минуту в Канудосе, за грядой гор начинают звонить колокола. Теотонио задирает голову к небу: да, темнеет, в осажденном городе колокола собирают мятежников на молитву. Каждый день, с непостижимой пунктуальностью раскатывается над горами их перезвон, а потом, если не стреляют орудия и молчат ружья, до самых позиций республиканских войск долетают голоса фанатиков. Благоговейная тишина наступает тогда в госпитале: многие осеняют себя крестным знамением, шевелят губами, беззвучно вторя молитвам своих врагов. Даже Теотонио, который не ахти какой ревностный католик, испытывает в такие минуты смутное, трудно поддающееся определению чувство – это не вера, это скорее тоска по утраченной вере.
– Значит, звонарь еще жив, – бормочет он, ничего не ответив раненому лейтенанту. – Еще не сняли.
Капитан Алфредо Гама много говорил об этом звонаре: раза два он видел, как тот взбирался на колокольню. По его словам, это был маленький старичок, незаметный и невозмутимый; он раскачивал язык колокола, не обращая никакого внимания на частый огонь, которым солдаты отвечали на благовест. По словам доктора, заткнуть пасть колокольне, сшибить дерзкого звонаря было заветной мечтой всех артиллеристов на Монте-Марио, и в час аншлюса[30] все они наперебой палили в него. Значит, так никто и не попал? Или на его место стал другой?
– То, о чем я хочу тебя попросить, – не от безнадежности, – говорит Пирес Феррейра. – И не думай, что я потерял рассудок.
Голос его тверд и спокоен. Он неподвижно лежит на одеяле, разостланном прямо на камнях, голову подпирает соломенная подушка, забинтованные культи сложены на животе.
– Ты и не должен отчаиваться, – говорит Теотонио. – Эвакуируют тебя в числе первых – как только подойдут резервы и вернется конвой, поедешь в Монте-Санто, в Кеймадас, а оттуда-домой. Так сказал генерал Оскар, он же приходил сюда. Не теряй надежды, Мануэл.
– Я заклинаю тебя всем, что тебе дорого в жизни, – непреклонно и кротко звучит в ответ голос лейтенанта. – Господом богом, твоим отцом, делом, которое ты избрал. Твоей невестой-я знаю, ты посвящаешь ей стихи.
– Чего ты хочешь, Мануэл? – бормочет юный врач и отводит взгляд, потому что прекрасно знает, чего хочет от него лейтенант.
– Пристрели меня, – непреклонно и кротко отвечает лейтенант. – Я умоляю тебя, Теотонио.
Студента из Сан-Пауло не в первый раз просят об этом, и, наверно, не в последний, но никогда еще не произносились эти слова так спокойно и обыденно.
– Я же не могу застрелиться, – поясняет забинтованный человек. – Потому прошу тебя.
– Мужайся, Мануэл, – говорит Теотонио и чувствует, что это у него, а не у искалеченного лейтенанта дрожит от волнения голос. – Пожалуйста, не проси меня об этом. Это несовместимо с моими принципами, с моей профессией.
– Тогда попроси кого-нибудь из санитаров, – говорит Пирес Феррейра. – Отдай ему мой бумажник, там еще наберется полсотни милрейсов. Отдай ему мои сапоги, они совсем целые.
– А вдруг смерть будет хуже того, что случилось с тобой? – отвечает Теотонио. – Тебя отвезут в тыл. Ты поправишься и снова захочешь жить.
– Слепым? Безруким? – все так же мягко спрашивает Пирес Феррейра, и Теотонио становится стыдно. Лейтенант снова разлепляет губы:-Не это самое скверное. Хуже всего мухи. Я всегда их ненавидел, они внушали мне омерзение. Теперь я в их власти. Они ползают по лицу, лезут в рот, забираются под бинты.