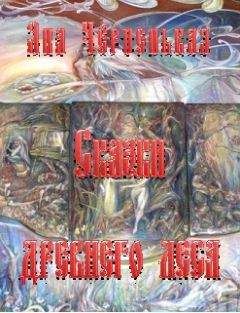Дуглас Кеннеди - Момент
Так тянулись недели. В моей камере круглосуточно горел свет, на полчаса меня выпускали на прогулку в бетонный блок с потолком из колючей проволоки, а по утрам шли пятичасовые допросы. Другими словами, меня планомерно уничтожали. Дни и ночи напролет я думала только о Йоханнесе, которого они у меня забрали и теперь твердили о том, что никогда не позволят мне — предавшей родину! — распространять свое пагубное влияние на «сына народной республики».
Ты никогда его не увидишь, если не станешь сотрудничать с ними, говорила я себе вновь и вновь. И сознание того, что Юрген — своим эгоизмом, ребячеством, безответственностью по отношению к жене и, главное, к собственному ребенку — привел нас с сыном ктакой катастрофе…
Так что, когда фрау Йохум сообщила мне о его смерти, все, о чем я подумала (после того как прошел первоначальный шок), было: по крайней мере, теперь тебе не придется жить с болью и последствиями своего идиотизма.
Стекла «мерседеса» были тонированными, так что неоновые огни города, каких я никогда еще не видела, отражались сквозь темную призму.
Наконец мы въехали на огороженную территорию. Ворота. Люди в форме. Яркие огни. Повсюду охрана. Мы остановились перед маленьким домиком. На пороге стояла женщина. Это была фрау Людвиг. Лет за сорок. Спокойная. Доброжелательная, как и положено профессионалу.
— Ты, должно быть, Петра, — сказала она, когда фрау Йохум передала меня на ее попечение и попрощалась, сказав, что завтра мы продолжим нашу беседу. Я вдруг почувствовала дикую усталость и страх, ничуть не уступавшие тому, что я испытывала все эти недели в заточении, когда мне говорили, что я должна сотрудничать со Штази, иначе меня сгноят в этой тюрьме и я никогда не увижу своего сына.
В конце концов я все-таки сдалась и сделала все, что они просили от меня. Включая подписание тех чертовых бумаг, позволяющих им…
Но все это было частью сделки. Сделки, которая требовала от меня выполнения некоторых заданий.
— Это в высшей степени серьезная и важная работа, — сказал мне полковник Штенхаммер. — Работа, которая принесет такую пользу нашей демократической республике, что я не вижу причин, почему бы не удостоить вас чести выполнить ее.
После чего он представил мне свое предложение. Предложение, которое, как он выразился, «позволяет вам надеяться».
Как я могла отказаться, зная, что иначе мои надежды рухнут?
Поэтому я согласилась, и настолько быстро, что Штенхаммер настоял на том, чтобы меня вернули в камеру еще на сорок восемь часов. Я должна была тщательно обдумать, готова ли я к столь ответственной работе. Сорок восемь часов в условиях полной изоляции? С сознанием того, что мой единственный шанс на спасение — в том, чтобы выполнить все их требования?
Вот тогда я окончательно сломалась — я умоляла его не запирать меня снова в камере, обещала полное и безоговорочное сотрудничество, присягала на верность. Да, я даже ввернула и это слово, означающее верность вассала, которое по-немецки звучит Lehenstreue. Штенхаммер улыбнулся, когда услышал.
— Какое средневековое словечко, фрау Дуссманн, — сказал он. — Хотя и с сильными семантическими коннотациями. Рыцари присягали на верность государю. И хотя средневековый феодализм противоречит демократическим принципам нашей республики, я, как гражданин, поклявшийся защищать республику от ее капиталистических врагов, принимаю вашу метафору Lehenstreue как ответ на наше предложение. Я также вижу, что, осознав свой долг перед государством, которое столько вам дало, вы готовы приступить к работе как можно скорее, понимая, что, чем быстрее она даст результат, тем ближе вы будете к тому, чтобы…
Он не закончил фразу, зная, что гораздо эффективнее держать меня в подвешенном состоянии. Это была наживка, и у меня не было другого выбора, кроме как проглотить ее.
Возможно, поэтому мне было так неуютно в эти первые часы пребывания на Западе. Любезность фрау Йохум и герра Ульмана. Их очевидная порядочность. Доброжелательность по отношению ко мне. А я все это время чувствовала себя плохим провинциальным актером, вынужденным играть роль Фауста в театре «Дойче Опера» Западного Берлина, и бесконечно мучалась сомнениями, принимают ли они мою игру.
Фрау Людвиг тоже выказывала верх гостеприимства и, насколько ей это было позволительно, проявляла ко мне сострадание. Квартира, где меня поселили, была шикарной, казалась оазисом спокойствия и безопасности, и меня переполняло чувство благодарности к этим людям, которые пытались сделать мою жизнь максимально комфортной. Сказав, что приготовит мне ванну, фрау Людвиг добавила, что у нее есть для меня маленький подарок, и вручила мне очень элегантный тюбик губной помады. Я прослезилась. Потому что сразу вспомнила эпизод из книги о Второй мировой войне, написанной одним английским историком; эту книгу присылали на рецензию в издательство, где я работала переводчиком. Как я узнала позже, ее рассматривали только потому, что у автора была безупречная репутация социалиста. Но очень скоро она оказалась в куче макулатуры, предназначенной на сжигание, — так мы поступали с книгами западных авторов, не имевших шанса на публикацию, чтобы они не попали в чужие руки. Я увидела эту книгу, потому что она лежала сверху в одной из корзин. Мне она показалась интересной и — с точки зрения властей ГДР — ревизионистской. Поэтому я рискнула и незаметно сунула ее в сумку, принесла домой и спрятала в тайнике кухонного шкафа в своей комнате. Это было за месяц до того, как я переехала к Юргену. Поздно вечером, когда мне не спалось, я доставала эту книгу и читала; оказывается, все, что нам вдалбливали о нацистах, пришедших из Западной Германии, было обманом. Они пришли из всех уголков Das Vaterland[108]. Хотя мы и знали о концлагерях, масштабов ужасов, творящихся там, даже не представляли. Английский историк нарисовал объективную картину этого чудовищного позора нации. Он не пытался ничего приукрасить. Он просто излагал факты, а они уже говорили сами за себя. Точно так же он проводил параллель с ужасами сталинских ГУЛАГов, про которые мы, разумеется, слышали, но говорить вслух не решались.
Как странно, не правда ли, что среди рассказов о детях, насильно разлученных с родителями, о зловещих медицинских экспериментах, когда женщинам заливали в матку жидкий цемент, о газовых камерах, о сборе золотых коронок с зубов жертв вдруг промелькнет маленькая деталь, которая проясняет все. В своей книге оксфордский историк упомянул о том, что британские солдаты, освобождавшие концлагерь в Бельзене, дарили губную помаду всем выжившим узницам. И те рыдали от столь мелкого в материальном смысле, но психологически громадного жеста, от этого кусочка роскоши, который признавал женственность в изможденных, истерзанных и униженных существах.