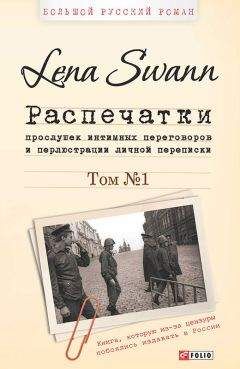Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
И потом опять, как колбаса, валко перевернулся на бок, схватившись за живот, с полустоном — как будто отравленный, или тяжко раненный. Отлежавшись чуток, и поняв, что Елена все равно никуда не уходит — и, кажется, благодарный, что она не мучает его больше вопросами и терпеливо молчит, Влахернский осторожно, не поворачиваясь, таким тоном, как будто даже и внутренне закрыл глаза на тот факт, что рядом с ним кто-то есть, проговорил:
— Пришел к своим, к верующим во Христа, к отрекшимся от мира ради Христа — а и здесь не всё по мерке… В мире всё не мое… А здесь… оказалось… не всё мое тоже. Нет, мне вот это всё… — Влахернский протянул перед собой руку и выразительно, как живое домашнее животное, погладил грубое одеяло на койке, — …нравится! Мне их простота очень нравится, их всегдашняя молитвенность, Доминик и Констанциуш мне как братья уже. Но вот эти вот все обряды! Я думал, что в монастыре все проще, без всяких обрядов… А походы с хоругвиями, поклонения ступенькам… Не знаю… Что-то в этом есть как раз мирское… А как жить дальше — не понятно… — вдруг совсем сорвавшись на ре-минорную виолончельную оторопь, докончил Влахернский.
Елена, помолчав немного, дав ему выдохнуть эту вот последнюю ноту, подождала, пока самая память воздуха о звуке рассеется, а после, как можно более отстраненным голосом, как будто только что зашла и ничего до этого не слышала, выдала:
— Илюша, у меня есть для тебя большой подарок. Вспомни: Господь сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Заметь: Христос ведь не упомянул никакого общежития. Не сказал: типа, «Ну, все вы там у Меня будете жить в одной большой хате, вставать по будильнику и гулять строем». Нет. Господь специально заранее пообещал: «Обителей много». Так что не переживай, Илюш. Обитель тебе отдельную справим. Ну а сейчас, временно, видимо, придется перетерпеть.
Влахернский неожиданно захохотал и обернулся:
— Да? Ты думаешь, Господь мне там выделит отдельный маленький домик с садиком на берегу моря, подальше от всех?
В широко распахнутую дверь приюта кто-то громко постучал.
— Ай-яй-яй: спать днем! Вы обедать пойдете? — на пороге стоял Констанциуш, уже без хоругвий, и с еще более широченной улыбкой, чем обычно, так что были видны многочисленные детские ямочки и на его растянувшемся угловатом подбородке, а радостно поддернутые щеки визуально дарили им, за раз, нектарины, желтые сливы и мушмулу.
VIНичегошеньки. Где мы сейчас проезжаем? Наверное, уже там, где я видела жеребенка и стог. Ни тебе того, ни тебе другого. И даже ржания не досталось. А над согнутыми локтями останутся железные дороги от этой влажной мазутной пыли на отжатых окнах: сметана ночи. Только волглая, днем надушенная, травой, срезанной несколько часов назад, несущаяся в ноздри и раздирающая гортань душистым кляпом, полнодышащая, с откосов срывающаяся и пружинящая темь. Еле успеваю отпрянуть, когда мимо, срывая еще и голос, с диким воплем и вполне излишними спецэффектами, прошныривает светопредставление встречного поезда. Попробуй тут хоть слово сказать. Тут и вздохнуть-то толком… Грязюги, короче уж — чего уж тут «пыли», «сметаны» — грязюжнейшей грязюги вагонной полно уж и на локтях, и под локтями, о, о, о, и вот здесь вот даже, под плечами, и почти под мышками. Благо еще, что майка на тонких бретельках — мало чему есть пачкаться. А у Влахернского вон, светлая рубашечка бязевая (была, болезный) — с рукавом хоть и коротким, но не настолько же — высунул торчком-то башку-то в сие же окно от мя одесную. Бритый. Братик. Неврастенический отшельник. А Воздвиженский — вон уже второй раз мимо нас шастает — сперва, типа в туалет, а теперь, вон — типа, кружку свою ему помыть срочно сбегать приспичило. Обратно, вон, идет, шатается — с пустой кружкой и елейно-ненавидящей мордой «сейчас убью обоих нафиг». Проверяет, обе ли мы тут с Влахернским как красны девицы себя ведем.
Уже не очень ясно, не очень правдоподобно чувствовалось теперь — как-так? скоро, слаженно, и единодушно, почему-то они вдруг, вечером, снялись и выкатились из монастырских стен и покатились опять с рюкзаками вниз, к станции. Ну уж конечно не из-за тревожного гугнежа Воздвиженского, что действие пелгжимок закончилось, и что их конечно же арестуют на первом же перегоне и сошлют в Варшавскую тюрьму.
А насыпал вдруг как град с неба в Кальварию народ, и, отстояв со всеми несчетными тысячами литургию, у ступеней храма — поняли вдруг, что лафа закончилась — дарованные вот им персонально на несколько дней покой, затишье, паломнический пересменок — как-то разом, без предупреждений, рухнули, взорвались оглоушивающим внешним шумом.
Под вечер, сразу после богослужения под открытым небом, моментально попрятали в патронташи зубные щетки и — хотя обниматься на прощание с лучезарно бодрившимся Констанциушем и откровенно загрустившим Домиником, суетливо ходившим вокруг них и своими пухлявыми античными ручками поправлявшим на всех рюкзаки, как польская мамаша, было пыткой, и каждый из актеров мизансцены готов был расплакаться — потому что противу всяких чувств было вообразить, что завтра (послезавтра, а может быть никогда) они друг друга не увидят, — вывалили за ворота — и, чересчур даже хорошо припоминая, под гигантскими рюкзаками, свой путь, сюда, на гору, спустились: той же крутой дорожкой к станции.
— Я не понимаю: почему? Что, это — запрещено монастырским уставом, что ли? — плаксиво, совсем расстроенно отцеживал теперь слова Влахернский, зависнув в отжатой фрамуге окна рядом с Еленой в узеньком вагонном коридоре, и смешно, для каждой фразы, вдергивая голову внутрь, в сравнительный вагонный штиль, из внешнего душистого (а, заодно, и душившего) железнодорожного урагана.
Были уже, должно быть, где-то на полпути к Варшаве — после удачной, без боев, пересадки в Кракове, промахнув уже, в темноте, не выходя, только ахнув, Ченстохову.
— Что именно? Что запрещено? Чем ты опять недоволен?
— Почему Констанциуш не разрешил письма ему писать?! Это, что, может быть запрещено лично ему? Ведь Доминику можно?
И Елена моментально вспомнила смятение в глазах Влахернского, когда он, молитвенно зажав ручки замком, выпрашивал, на прощание, как приговоренный помилования, не понятно на каком языке:
— Констанциуш, брателло! Ну разреши мне, пожалуйста, сюда тебе письма посылать! Хоть изредка! Дай мне индекс! Ну, я обещаю — ни о чем мирском ни слова!
Констанциуш же — то ли из-за каких-то внутренних распорядков ордена, то ли из-за собственного склада характера (что казалось удивительным, при его внешней бескрайней общительности), — вдруг принялся застенчиво, но жестко, отнекиваться.
— Нееее… Я письма писать не очень люблю… — улыбался как-то душераздирающе Констанциуш. — Буду за вас молиться.
Зато Доминик тут же, без единой запинки, с ангельской улыбкой на мягко изогнутых римских губах, роскошным высоко-овальным почерком вырисовал Влахернскому — на очередном очень малоподходящем к случаю клочке — адресок монастыря. А потом, обведя их всех снова взглядом, чуть подвсхлипнул на прощание.
Художник Циприан, тот и вовсе зарисовался куда-то за горизонт и, по неизвестной причине, проститься не вышел: Констанциуш объявил, что тот занят, несет какое-то послушание, и передал всем братский привет.
— Ну, может, у Констанциуша такой особый настрой в жизни сейчас, не эпистолярный… — глядя на плаксивую, с раздрябанными по ветру губами, разнюнившуюся физиономию Влахернского, Елена ощутила, что у нее и у самой, после пары часов знакомой эйфории путешествия и ветра, вновь горло сжимается от жалости, что они уехали, что их как будто сдуло из этой теплой каменной ладони на вершине — защита которой чувствовалась уже такой же естественной, как наступление утра; и что кончились эти монастырские каникулы; и что вот теперь убегал, стремительно уезжал от них по рельсам, рассеивался, как сладкий сон, этот ежедневный небесный, горний жанр жизни, который, несмотря на все капризы, ощущался все-таки куда ближе и роднее, чем расхожий стилёк мира, в который их снова вытолкнуло понаехавшей толпой.
Впрочем — тут же — со скоростью, которая ее даже и саму насторожила, едва Елена высунулась опять в окно, и подставила дыханье ветру, как-то все показалось проще, и внутри нее нашлось как-то подозрительно гладко заключенным перемирие: шаперон тяжести самокопания сдуло с головы долой, и — как будто увеличительное стекло, наставленное на ее душу там, в упор, в монастыре, на горке, вдруг убрали. Прошлое как будто застекленело в прошлом. А будущее… — вот же оно, будущее! — настанет уже через… Когда мы доедем до Москвы? В Варшаве, прям сразу, не выходя с вокзала, узнаем про поезд — вдруг, подвернется ночной! Посадят ли? Ох, куда денутся! Стекла вагонные задрожат и высыпятся на перрон, вагон перевернется и встанет на дыбы на дебаркадер — и двери вагонные сами собой разомкнутся — и впустят ее — але-оп! — если откажутся проводники! — и — через сутки с лишним… Ох, с совсем, совсем уже с лишним… Поскорее бы… Высунувшись вновь в окно, упруго полоща на ветру ладони как паруса, в этой, как ей показалось, родственной, скоростной стихии внезапно вообразила вдруг вновь блаженство перелистывания Крутаковских черновиков — книга ведь должна быть уже — вот-вот — готова — когда Крутаков сказал? В сентябре? И одновременно, именно из-за этой, каждым волоском на коже чувствуемой, скорости, с которой они неслись вперед, зазнобило во внезапном припадке малодушного ужаса: еще явственнее, чем скорость, чувствовала, что земное счастье, которым закадрово сдабривала, усложняла, переперчивала, забивала запредельными специями, делала почти невыносимо волнующей и восхитительно преображала каждую секунду жизни — из рода тех редких, небывалых и, наверное, дико тяжелых и ответственных феноменов счастья, которому, если уж скажешь однажды «да» — то на всю жизнь: невозможно будет через месяц, или через полгода, сказать «извини, я передумала, мне с тобой тяжело». И от этой ответственности становилось жутковато. Она опять выставила вперед ветру руки, слегка не рассчитав степень расслабняка — и правую ладонь отбросило так, что чуть не зазвездило в лоб Влахернскому, — Елена взглянула на его кислую морду, на его страдальчески поджатые… — нет, вернее, так: поджата только верхняя, а нижняя выпала в осадок — губы; отвернулась прочь; поднялась на цыпочках и высунулась как можно дальше в окно, рискуя оставить следы мазутистой грязюги уже и на пузе; заглотнула еще раз, побольше, залпом, этого невозможного, изумительного, густо, до темноты, Крутаковским методом, видать, заваренного, воздуха; и вдруг сказала себе: да нет же, чего бояться — вот так вот всё и будет: это счастье ведь — вот оно, уже со мной сию секунду, даже ближе вытянутой руки — Крутаков ведь уже со мной — где бы я ни находилась. Куда ж теперь от него денешься? Значит, так и будет, всегда. Пусть это глупое волнение — чушь, ерунда — а волнуюсь почему-то действительно так, что невозможно дышать, и ветер здесь ни при чем — но ведь я действительно опять сейчас чувствую Крутакова рядом, — даже в вечность раз более реально, чем вот — так, к слову, — этого мучающегося сбоку, насупившегося беднягу Влахернского. Набредя на эту брешь в собственных тревогах, выломав из забора тревог огромную щепу и пробравшись сквозь лаз, на серо-песчаный, хвоей колко поперченный берег, и уже собираясь на ней, на этой щепе, пуститься вплавь через море, но найдя даже и брод в перехлестывающих шквалистых эмоциях, Елена (как это всегда происходило с ней от взрывного избытка счастья внутри) почувствовала, что уже больше просто физически не в состоянии переносить откровенное несчастье другого рядом — пусть даже и гораздо менее реального. И в сотую долю секунды придумала, чем бы скорбного Влахернского занять.