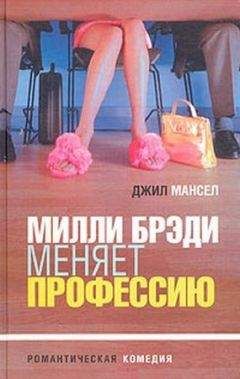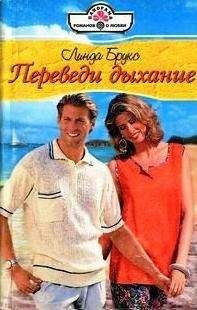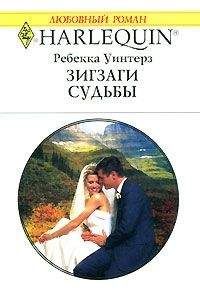He как у людей - Хардиман Ребекка
В утешение он припоминает трудные периоды других своих детей — когда-то они тоже ужасно бесили, но пролетели довольно быстро, хотя, конечно, это только теперь так кажется. Джерард, было время, свирепо лупасил всех, кто только посмеет посягнуть на его игрушки, Нуала не хотела есть ничего, кроме йогурта, а Киран сосал соску уже далеко не младенцем — давно ли им приходилось кипятить чайник и размачивать замусоленную пустышку, потому что сыну нравилось совать ее в рот мягкой и влажной.
Подъезжая к гостевой парковке, Кевин старается унять нетерпеливое желание — абсурдное и неуместное, как он прекрасно понимает, — еще разок полюбоваться на школьного администратора, мисс Роуз Берд, с которой он познакомился, когда приезжал записывать Эйдин в школу. Мисс Берд — молодая светловолосая богиня, с телом одновременно спортивным и чувственным, с идеальной грудью — двумя маленькими глобусами, торчащими под неожиданно строгой кремовой блузкой-рубашкой. Ее близость вскружила ему голову, и он повел себя, пожалуй, глуповато. Тогда-то, во время этой короткой встречи в тесном кабинете, Кевину казалось, что он держится с развязностью искушенного сердцееда и весьма остроумно рассказывает о своих школьных годах. Не забыл он и щегольнуть знакомством со знаменитым драматургом, с которым учился, хотя по ее непонимающему взгляду стало ясно, что она понятия не имеет, о ком это он. Потом Кевин не раз вспоминал этот непонимающий взгляд, и теперь этот легкий флирт уже кажется ему слишком топорным, слишком явно выдающим озабоченность и средний возраст.
Он глушит мотор и оборачивается к дочери:
— Ты уже знаешь скучную историю о том, как сто лет назад твоя бабушка отправила меня в лагерь на молочную ферму в Типперэри?
В ответ Кевин слышит откровенно пренебрежительный досадливый вздох и умолкает. Он-то надеялся утешить дочь одним из немногих его детских воспоминаний, подходящих для ушей подростка, тем более что в этой истории многое должно быть ей близко: изгнанничество, тоска по дому, отчаяние. По правде говоря, все в этом лагере было ему ненавистно: дергать коров за соски в рассветной темнотище, рубить торф, пока на непривычных к работе руках не вздуются пузыри, спать в сарае на койке под вонючим списанным армейским одеялом, каждый вечер по два часа до отупения долбить ирландский язык. Вдобавок местные игнорировали городских пижонов из Дублина. Так что же он делает сейчас? Зачем обрекает свою дочь на такую же печальную участь? Неужели он перешел на темную сторону — на сторону взрослых, куда, когда стал отцом, торжественно поклялся не переходить ни за что на свете? Разве теперь, спустя десятилетия, мятежная юность не остается стержнем его вольнодумной, нонконформистской натуры? Разве не он, в конце концов, организовал в школе бойкот «Кока-Колы» из-за поддержки апартеида? Разве не он создал группу The Right Wailing Willies в родительском гараже? Правда, все ограничилось парой репетиций: двоим участникам не на чем было играть, а одного выгнали за то, что вероломно скрыл от остальных факт обладания несколькими альбомами Bee Gees. Но все-таки, ведь все это делалось ради борьбы с системой.
А теперь поглядите на него: ему полтинник, и он везет свою дочь, умеренно трудного подростка, в одну из самых престижных женских школ Дублина, на которую ухнули остатки денег с их сберегательного счета, и спрашивается, почему? Только потому, что она немного… разболталась? Отбилась от рук? Вот они, его заурядные проблемы, которые даже проблемами нельзя назвать — так, убогая мещанская суета. Как он до этого докатился?
— Я только хочу сказать, — говорит Кевин, — что ты потрясающе сильная и все можешь.
Все утро Кевин пытался побороть тревожное ощущение: он чувствовал, что не вправе упустить этот важный момент, который дочь наверняка запомнит на всю жизнь. Всего ведь каких-то два года ему осталось формировать ее характер, любить, направлять, заботиться, воспитывать. Он протягивает ладонь сквозь струю искусственного тепла от радиатора: хочет взять дочь за руку, чего ни его отец, ни мать, между прочим, никогда не делали, им бы это и в голову не пришло. У мамы материнские чувства и проснулись-то, кажется, только в старости, а в его смутных воспоминаниях об отце до болезни тот видится каким-то отдаленным загадочным великаном.
Кевин сжимает пальцы Эйдин в своих и произносит:
— И я тебя очень люблю.
Эйдин отталкивает его руку и открывает дверцу машины.
Звенит звонок, и со всех углов кампуса, словно все это время ждали в засаде, сбегаются фигурки в грязнокоричневых юбках и джемперах с алыми галстуками.
Сбившись в тесные кучки, с тяжелыми рюкзаками за спиной, они перебегают зигзагами от одного корпуса к другому. Эйдин, словно бы уже смирившаяся со своей судьбой, вылезает из минивэна и покорно вливается в общий поток. Кевин заносит ее вещи в спальный корпус и бежит следом, с трудом поспевая за ней.
Когда они подходят к кабинету администрации, Кевин откашливается, вытирает влажные ладони о рубашку, на которой только теперь замечает засохшее пятно какой-то неизвестной гадости, и мысленно говорит себе: «Не будь придурком». Он сам понимает, что это глупо. Он ведь женатый мужчина. Но в кабинете мисс Берд никого нет. В первый момент Кевин ощущает горькую пустоту, а затем сам изумляется силе своего разочарования. Оказывается, он ждал этой встречи как самого важного события дня, да что там, всей недели. Сейчас он вернется в Долки и будет просматривать вакансии на сайтах, собирать вещи в химчистку, готовить обед, потом того отвезти, этого забрать, чего-нибудь перекусить, потом уроки с детьми и хоккей, а там и ужин. Снова этот заведенный круг, эта накатанная колея — вот это и есть его жизнь.
Кевин заглядывает в следующий кабинет — гигантскую резиденцию директора, с намерением жизнерадостно поздороваться, но и там не видно мисс Мерфи, эксцентричной горбуньи, которая с середины прошлого столетия руководит этой школой в суровом духе ирландской церкви. Это жутковатая фигура в черном, с ногами, наверняка ни разу в жизни не тронутыми бритвой. Она известна тем, что любит потчевать своих учениц мрачными сагами о выживании в суровых условиях и дикими советами в том же духе: например, пользоваться вощеной бумагой, если рулон в туалете закончился, или выворачивать трусы наизнанку, чтобы продлить срок их носки.
Мысль о нижнем белье мисс Мерфи — не из тех, которые легко вынести с утра, и Кевин плетется дальше, а дочь все так же вышагивает впереди, излучая стрех и плохо скрываемую ненависть ко всем вокруг и не в последнюю очередь к себе самой.
Вскоре они обнаруживают, что вся школа собралась в актовом зале и слушает (или не слушает) грузную женщину, похожую на доярку: она зачитывает перед этим коричневым морем какие-то скучные объявления. Здесь же Кевин замечает и мисс Берд, правда, ее почти не разглядеть за строем пожилых учительниц. Невезуха. Звучит орган в сопровождении хилого, анемичного хора: «Господь, как Ты велик…» Поют только самые старые и самые маленькие, все остальные лишь беззвучно шевелят губами или молча стоят со своими классами, поводят вокруг мечтательными глазами и думают… о чем? О мальчиках? О месячных? О смысле жизни? Черт их разберет. А как там его собственная дочь — обмирает от страха, наверное? Он пробегает глазами по рядам, но Эйдин не то растворилась в толпе, не то уже удрала. Во всяком случае, ее нигде не видно, и Кевин с тоской думает о том, что не успел ни попрощаться, ни пожелать удачи.
11
Милли сидит, скрестив руки и засунув под мышки пальцы, у грязного камина, в котором горит не очень-то жаркий огонь, и смотрит через огромное венецианское окно на свой залитый дождем палисадник. Всякий раз, когда взгляд ее падает на две экзотические пальмы, раскачивающиеся под неутихающими дублинскими ветрами, перед ее мысленным взором предстает оживленная бухта, что расположена дальше по ее любимому побережью, с изящными яхтами и кораблями, красной шапочкой маяка и прибрежными утесами. В один прекрасный день она обязательно пройдется по Восточному пирсу и купит себе фирменное мороженое «99» в вафельном стаканчике в древнем киоске «Теддис», точь-в-точь как в детстве — с воткнутым сбоку шоколадным батончиком «Кэдбери Флейк».