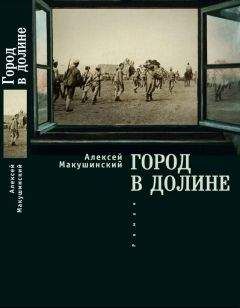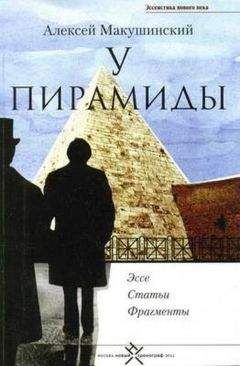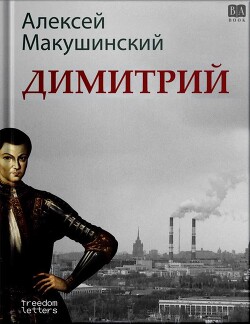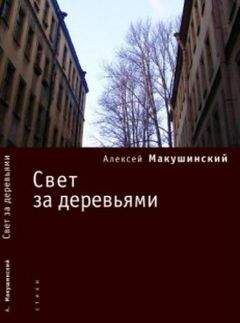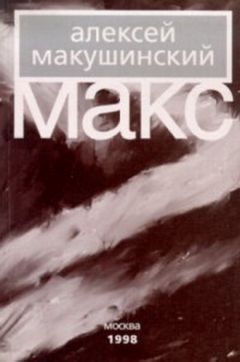Город в долине - Макушинский Алексей Анатольевич
После его возвращения из Ленинграда, женитьбы, рождения дочери мы стали реже с ним видеться, реже звонить друг другу; таких проведенных вместе дней, какие бывали в начале восьмидесятых годов и бывали потом в эмиграции, в конце девяностых и начале двухтысячных, в Гейдельберге или в Дижоне, – таких дней в конце восьмидесятых годов я (за одним, во всяком случае, исключением, о котором чуть ниже) не помню; просматривая теперь мои дневники того времени, почти не нахожу в них упоминаний о встречах с Двигубским, из чего не следует, что этих встреч не было, но следует, что я не считал нужным упоминать о них. А впрочем, я очень мало значения придавал в ту пору внешней жизни, как я называл ее, происходящему вокруг меня, до некоторой степени даже и происходящему со мною самим; мне важна была только моя внутренняя, подлинная, как мне казалось, несомненно моя и настоящая жизнь, все решительнее сводившаяся к писательству, к успеху или неудаче этого писательства, как будто отменявшего все прочие тревоги и обстоятельства, и не только тревоги и обстоятельства внешние, но до некоторой степени, как сказано, даже и внутренние, замененные тревогами сочинительства, возможностью, или невозможностью, дописать до конца вот эту фразу, вот эту страницу. Были благословенные дни в конце августа 1986 года, в балтийской моей деревне, уже покинутой друзьями и дачниками, когда осень вдруг словно распахнула пространство, раскрыла округу, желтыми, красными флажками и указателями разметила превращенный в ландкарту ландшафт, и в моих фразах тоже вдруг что-то распахнулось, раскрылось, в прозрачном воздухе, в солнечной тишине, шаги по листьям послышались в них, шорох листьев между запятой и тире, шепот осени между точкой и точкой, и далеко-далеко стало видно с до той поры не ведомых мне холмов. Где-то (irgendwo) есть застарелая вражда между жизнью и большой работой, сказано у Рильке. Тот, кто живет, не работает, говорит Томас Манн, писатель, в сущности, должен как бы уже умереть, чтобы вполне быть творцом (um ganz ein Schaffender zu sein…). Нужно выбирать между совершенством жизни и совершенством в работе (perfection of the life, or of the work), пишет Йейтс. Максимы нашей молодости, от которых мы не отказываемся… Так называемой перестройки я постарался вообще не заметить. В конце концов, говорил я смеявшемуся в ответ Двигубскому, я никого не просил возвращать меня обратно в историю, мне было и без истории хорошо. Мне это вневременное существование даже, если хотите знать, нравилось. Ведь это же была почти вечность. Никакого времени, только пространство. В котором у каждого из нас был свой угол. Сиди в своем углу и тихо занимайся чем хочешь. Нет, придумали перестройку, не дают роман дописать… Смешно и даже немного стыдно признаваться теперь, но вся эта, действительно, перестройка, и вся эта даже гласность, не говорю уж об ускорении, эти какие-то съезды каких-то советов и депутатов, эта закулисная борьба между светлыми силами реформаторов и ненавистными силами реакции, все эти Лигачевы, Слюньковы и Чебриковы, и даже эти публикации в «Огоньке» и «Московских новостях», эти разоблачения сталинизма, про который мне все было и так понятно уже в детском саду, эти первые робкие попытки замахнуться на Ленина, которого я ненавидел с пеленок, – все это было для меня какой-то внешней, случайной, назойливой чепухой, никак, ни в малейшей мере не затрагивавшей моей внутренней, меня самого. У меня был план в жизни, сводившийся к простой формуле: написать роман и уехать. Напечатать его в Совдепии не представлялось мне, конечно, возможным, но написать его следовало все же в России, в покое привычной, хотя и убогой жизни – чтобы затем уже выйти в широкий мир и начать жизнь действительно новую, которая, полагал я, могла, особенно поначалу, и не оставить мне времени на писательство. Собственно, этот план с поправкой на разные случайности, все-таки не позволившие мне закончить мой упорно разраставшийся опус в России, и привел меня впоследствии в эмиграцию, как если бы жизнь получила некое направление, которое уже не могла, как и я не мог, изменить, уже пошла по определенному пути, не в силах сойти с него, взяла разгон и приготовилась прыгнуть или, воспользуемся другим сравнением, бежала уже по инерции, не глядя по сторонам, не обращая внимания на то, что совершалось слева от нее, что творилось справа. Потому открывшаяся вдруг возможность поехать, например, за границу – и вернуться, просто съездить в Париж – и вернуться, воспринималась мною, смешно и стыдно вспомнить, опять-таки, чуть ли не как некое досадное недоразумение, сбой моих замыслов, нарушение той чистой схемы, по которой я жил, что, впрочем, не помешало мне (все мы сотканы из противоречий, как все мы уже и заметили…) тут же, едва лишь первые дыры образовались в проржавевшем железном занавесе, отправиться (осенью 1988 года) в большое, первое и, конечно, самое лучшее, в такой первозданной свежести уже никогда не повторившееся путешествие по Франции и Германии. Двигубский в это время участвовал в создании «Мемориала» и публиковал статьи о русской истории в тех же «Московских новостях», в «Новом мире» и «Знамени», в ленинградской «Звезде» и в рижском журнале «Родник». Конечно, сказал он мне как-то, вы, житель очарованного острова, с Калибаном и Ариэлем… кто Калибан, кто Ариэль? – вставил я… конечно вы, продолжал он, на вашем очарованном острове видите все по-другому, смотрите издалека. А я живу здесь, на материке, в этом месте и в это время, и то, что здесь происходит, впрямую меня касается… В статьях своих он писал о неудаче либеральных реформ, Александровской и Столыпинской, о том, что в русской истории постоянно взаимодействуют, вернее – борются друг с другом, две, как выражался он, парадигмы, парадигма, скажем так, европейская, восходящая прежде всего к Великому Новгороду, и парадигма ориентальная, роковое наследие Золотой Орды, передавшей свой злосчастный тип государственности Московскому великому княжеству, затем царству, затем Петербургской, с некоторыми оговорками, империи, затем дальше… читатель прекрасно понимал, куда дальше, точнее, что дальше некуда… писал, развивая свою мысль, что примерно два раза в столетие Россия имеет шанс из этой ориентальной, татаро-монгольской, подавляющей человека парадигмы, наконец, выскочить, от гипертрофированной государственности уйти к гражданскому обществу, но всякий раз останавливается, к несчастью, на полдороге, задумывается, оглядывается, колеблется, начинает вновь и вновь мечтать о своем особом пути, противопоставлять себя разлагающемуся якобы Западу, вообще чудить и куражиться – и в конце концов поворачивает обратно к будто бы сияющим, на самом деле зловещую тень бросающим на всю нашу жизнь куполам и вершинам исторического псевдовеличия. Если мы не уйдем от них на этот раз, то следующего шанса может уже и не быть… На письменном столе у Двигубского лежала теперь не одна какая-нибудь советская газетенка, но все выраставшая, с каждым из нечастых моих посещений, начинавшая уже крениться и расползаться кипа перестроечных публикаций, соревновавшаяся в силе и росте со стопкой книг на дальнем, у окна, конце этого к стене по-прежнему (с портретом Ключевского) приставленного стола, книг, среди которых выделялись, и мне запомнились, пожелтевшие тома «Архива русской революции» (1921–1937), не помню, доставшиеся ли от пресловутой рижской тетки (скорее всего…) или привезенные им, с бесстыдным пренебрежением к таможне (книгами в ту пору уже, впрочем, переставшей интересоваться, но интересовавшейся исключительно предметами возможной спекуляции, синтезаторами фирмы Yamaha и магнитофонами фирмы Sharp) из его собственного первого заграничного путешествия (в Англию, в 1989 году); «Архива русской революции», говорил он, без которого, занимаясь сей страшной эпохой, обойтись вообще невозможно, он же, Двигубский, говорил он, отвечая на мой вопрос, не только продолжает заниматься ею для себя, что бы сие ни значило, но и пишет, вот как раз сейчас и сегодня, большую статью о белом движении и причинах поражения оного, каковые причины перечислить, конечно, не трудно, будь то причины социальные, национальные или чисто военные, но говоря о которых, вот в этой, к примеру, для «Вопросов истории» предназначающейся статье, он, Двигубский, старается и все-таки по-настоящему не может увидеть еще нечто… самое важное, может быть… что же? А вот просто увидеть, как это было, сказал он, взмахнув своими бровями, взлетевшими в очередной раз над морем, отраженным в его глазах. Вот причины войны, вот причины поражения… Цели воюющих сторон и так далее… Все это, конечно, так, но всего этого ему недостаточно. Что-то самое главное пропадает. Как это было? как пахло? – говорил он, передавая мне один из широких томов «Архива», заложенный, если память меня не подводит, на вот этом месте из воспоминаний генерала А. С. Лукомского (сверяю теперь, понятное дело, по тексту), относящемся к большому наступлению на Москву 1919 года: «В октябре был занят Орел. Но наряду с успехами на фронте из тыловых районов армии все чаще и чаще стали поступать сведения о возрастающем неудовольствии среди крестьян и рабочих. Неудовольствия и возмущения крестьян происходили вследствие участившихся случаев бесплатных реквизиций, грабежей и поддержки войсками помещиков, вымещавших на крестьянах свои потери и убытки. Недовольство рабочих объяснялось главным образом тем, что приход Добровольческой Армии не улучшал условия их жизни, которые становились все более и более трудными». Все это только слова, а как это выглядело?.. А вот, сказал П. Д., отбирая у меня книгу, вот, в том же томе, «Доклад Центрального Комитета Российского Красного Креста о деятельности Чрезвычайной Комиссии в Киеве», составленный, разумеется, после освобождения Киева от большевиков Добрармией со слов сестер милосердия, все-таки еще допускавшихся в то время в чекистские тюрьмы, вот, попробуйте себе это представить, сказал он, цитируя, если, опять-таки, память меня не подводит, вот это место (и его я сверяю теперь, понятное дело, по тексту): «Как и большинство сотрудников Ч. К., Терехов не мог жить без кокаина. Кокаинистом был и комендант Михайлов. Тоже молодой, стройный, с усиками, холеный и франтоватый. Одетый по моде нарядного красного офицера. На груди у него красовалась красная звезда и другие знаки отличия советской армии. Все отличной ювелирной работы. Михайлов был комендантом Губернской Ч. К., которая помещалась в Генерал-Губернаторском доме. В лунные, ясные, летние ночи он выгонял арестованных голыми в сад и с револьвером в руках охотился за ними». Советую вам когда-нибудь почитать сей «Доклад», Макушинский, говорил он, перелистывая этот, теперь я знаю, что – шестой, том «Архива» своими длинными пальцами. Почитайте, полюбуйтесь на замечательные типы палачей, здесь выведенные. Это «когда-нибудь» наступило только сейчас; «Архив», как выяснилось, весь целиком есть в нашей университетской библиотеке. Не могу удержаться, чтобы не выписать хотя бы еще два места: «Авдохин был среднего роста, толстый, приземистый, коренастый, почти атлет, с большой четырехугольной головой. У него было отекшее лицо, нависшие брови, спускающиеся на маленькие, бегающие глаза, не смотревшие на собеседника. Его глаза бегали, бегали, точно выискивали. С невольной тревогой следили арестованные за этими глазами. Вот-вот они остановятся и обожгут намеченную жертву. Авдохин всегда находился в состоянии непрерывного жестокого и сладострастного возбуждения. Как и другие коменданты, Авдохин любил франтить. Каждый день он появлялся в новом туалете, иногда в матросском, иногда в штатском. Все на нем было с иголочки, новенькое. На коротких толстых пальцах горели драгоценные камни. Трость была украшена серебряным набалдашником. Авдохин был и пьяница, и кокаинист. Окруженный женщинами, нарядными, в перьях, с браслетами и цепочками, катался он по городу, устраивал вместе с другими в домах в Липском переулке, где жили комиссары, буйные празднества. Этого развратного, преступного матроса, для которого в мире не было ничего святого, его товарищи комиссары считали даже добрым. На самом деле это был разбойник, пугачевец, в котором стихийное, зверское начало чудовищно переплеталось с социалистическим налетом. Ему было приятно быть щедрым. Увидал, что у санитара нет сапог, – велел дать. Товарищи не без гордости говорили: Мишка – он у нас добрый. А Мишка в ту же ночь опять расстреливал заключенных». А вот потрясающая история двух братьев Асмоловых, один из которых «был высокий матрос с бритым лицом, похожий на англичанина, одетый то в щегольскую матроску и рубаху, то в штатское, тоже щегольское. Всегда спокойный, он творил свое дело с холодной уверенностью. Эта уверенность красных палачей, отсутствие в них даже тени нравственного отвращения к преступлению больше всего терроризировала заключенных». Брат же его как раз и был заключенным. «Живой, всегда веселый, ко всем внимательный и ласковый, арестант Асмолов был любимцем тюрьмы, которая ценила в нем прирожденное благородство. Он всегда был чем-нибудь занят, плел какие-то колечки, раздавал их своим товарищам. Танцевал, пел. В самые тяжелые минуты умел поддержать, подбодрить, даже примирить осужденных со смертью. Он был большевик. Сестра так и не поняла, в чем его обвиняла советская власть. Раз сестра его спросила: Неужели ваш брат не мог похлопотать за вас?.. Молодой человек вздрогнул, выпрямился и с негодованием сказал: «С братом у меня нет ничего общего. Он палач». – Асмолова расстреляли. В тюрьме говорили, что он умер героем». Так-то, говорил, в свою очередь, Двигубский, откладывая, наконец, книгу, глядя в окно, где высокие тополиные кроны колебались в бледном и чистом небе, и детские крики долетали сквозь открытую форточку, мешаясь с испуганным гульканьем голубей, стуком футбольного мяча о невидимую какую-то стенку, дальним, с улицы, шумом машин и тем общим гулом, которым город всегда сообщает о своем присутствии за углом наших разговоров, за краем мыслей. Оставляя Двигубского писать эту ли, другую статью, уходил я, почти в каждое из моих посещений, к Константину Павловичу, с которым в эти годы у меня окончательно сложились свои, отдельные от П. Д., отношения. Именно ему, не П. Д., вот что удивительно теперь для меня, читал я время от времени куски понемногу складывавшейся и находившей себя моей прозы (в которой ни о каких Авдохиных, ни о каких Асмоловых еще и речи не было, не могло быть…); пару раз, я помню, приезжал к нему с рукописью, один раз даже в отсутствие его старшего сына, улетевшего на конференцию в Штаты; замечания его были для меня драгоценны. Света, как и Елена Сергеевна, как и в 1986 году появившаяся на свет Оленька, все они присутствовали при этом где-то на заднем плане, в дальней комнате, в глубине коридора; и что-то было трогательно-патриархальное в этом укладе их дома, в этой незримости женщин, неизвестно чем занимавшихся в своем гинекее, появлявшихся, когда Константин Павлович объявлял, наконец, что пришла пора ужинать, после ужина опять исчезавших. Света, потолстевшая после родов, ходила тихо, тихо улыбалась чему-то, поглощена была дочкой, изредка, поднимая голову, бросала на мужа то восхищенные по-прежнему, то какие-то загадочные, кошачьи, не понятные ни мне, ни, наверное, ему самому взгляды, те непроницаемые женские взгляды, в которых мужчине всегда видится какое-то смутное и ничем, конечно, не оправданное сознание женщиной своего превосходства над ним, надуманного превосходства цельности над раздвоенностью и природы над мыслью. В редких семейных спорах, которым я был свидетелем, всегда становилась она на сторону Елены Сергеевны. Марина к тому времени уже вышла, кажется, замуж. Сережа, уже взрослый, окончивший физико-математический факультет университета, без всякого, впрочем, интереса к математике или физике, был, как и раньше, угрюм, думал о чем-то своем, смотрел презрительно, готовился к будущему богатству.