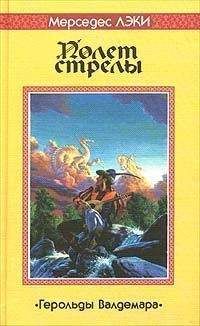Путь стрелы - Полянская Ирина Николаевна
С трудом выбравшись из метро, она вскочила в троллейбус и, пока ехала, не переставала удивляться: с каждой остановкой деревья становились все зеленее, небо все больше прояснялось и светлело, может, какой-то стремительный циклон пронесся по городу и листки отлетевшего календаря, как стая птиц, потянулись с юга обратно в родные края... И вот она вышла у Савеловского вокзала, где на каждом шагу продавали махровую белую и лиловую сирень и стрелки ландышевых листьев указывали на конец мая.
...Яна смогла дойти лишь до Дмитровского моста. До него добралась легко и просто, но под мостом на нее вдруг обрушилась такая каменная тяжесть, что в глазах потемнело... Легкие ее обожгло жаром, как будто воздух загустел и раскалился, сделавшись похожим на расплавленный асфальт. Еще шаг — и Яна почувствовала, как сильно сдавило грудную клетку, еще один шаг — и ее, казалось, расплющит: воздух бешено вращал хрустальными жерновами, выталкивая Яну, визжа, как точильное колесо... Прислонившись к каменному столбу, она грустно смотрела вдаль. Там, за Дмитровским мостом, начиналась весна. Листья едва брезжили из почек, крохотные зеленые огоньки перебегали с ветки на ветку, и вдруг целое дерево, береза, занималось золотистым пламенем! Каждая ветвь звенела, как монисто, тонкие, они сверкали паутинками бабьего лета. Яна помнила: где-то по левую руку лежал Тимирязевский парк, там они часто гуляли с Костей; чтобы попасть туда, надо было пройти по узкой улочке мимо дома-мастерской известного придворного скульптора, давно почившего в бозе. Весна бродила в осиротевших каменных кудрях гигантской головы макета «Родины-матери» с разинутым, как у той женщины на площади, ртом, в котором уместилось сорочье гнездо, и набрякшими жилами на шее, — эта бедная голова, вылепленная с жены скульптора, как память Яны, давно пошла трещинами, ее каменный мозг щекотала цветущая повилика; голова нависала в ржавых лесах над прохожими как вечная угроза монументальных миров; который год она дожидалась отважного витязя с копьем наперевес, готовая от первого удара расколоться на тысячи мелких осколков. По огромному зеленому двору мастерской скульптора разбежались, словно после каких-то событий, памятники бывшим сиятельным вождям и светочам искусства — они, как персональные пенсионеры, попрятались кто под вишенью, кто под лопухом. Среди них встречались увечные и незавершенные, то здесь, то там блестели лысины, из травы торчали бледные руки и локти, как из могил, а один сиятельный по пояс утонул в земле и стоял на тулове, как безногий инвалид, которого спихнули с его крохотной платформы на колесиках. Зимой памятники походили на Дедов Морозов с нахлобученными на темя сугробами, в снежных шубах, наброшенных вьюгой поверх их гранитных шинелей и мраморных гимнастерок, и рты их были залеплены снегом, но весной лица их озаряла улыбка... Здесь жил временами институтский Костин приятель, непутевый наследник скульптора, и Яна часто бродила по заросшему саду с ведром и тряпкой в руках, протирая увечные памятники, избирательно предпочитая одних другим и таким образом как бы восстанавливая историческую справедливость. Рядом тянулась тенистая улица имени одного из памятников, который тоже жил в саду под лопухом. Улица впадала в замечательно просторный пустырь, весь зараставший в июле пижмой и цикорием, — желтой, как небо, когда солнце рассекает золотыми веслами тонкие перистые облака, и голубым, как Костины глаза, когда он улыбался ей, шепча на ухо слова любви, чушь невероятную, имевшую значение лишь для двоих... Там повсюду — от Дмитровского моста до «Эстафеты» — стояла такая весна, какая только однажды случается в жизни человека, да и то не каждого.
Утром Яна снова отправилась на разведку, но все опять повторилось, только теперь ее связало по рукам и ногам невидимыми путами в районе Савеловского вокзала. Пространство памяти и жизни ужималось, как шагреневая кожа, — на Яну неумолимо наступала упругая, бьющая невидимыми молниями стена, которую не обойти. Как же ей попасть к... на лбу у нее выступил пот: Яна забыла название кинотеатра, у которого жил Костя. Потом ею овладело среди безумной музыки моторов и гудков глубокое забытье, а затем наступила ночь, в которой погасло само слово «кинотеатр»...
Но память о направлении в ней была еще сильна. Яна сменила тактику и теперь, углубляясь в проходные дворы и переулки, избегала больших магистралей, надеясь, что это каким-то образом поможет ей нащупать какую-то тропу или лазейку и перехитрить эту таинственную силу, всякий раз останавливающую ее на определенном рубеже.
Через день Яну сковало, уже когда она пересекала Садовое кольцо. Она едва выбралась на безопасный островок посреди дороги, и целая толпа пешеходов скользнула по ней прохладной тенью.
Теперь Яна думает об одном, об одном ее молитва: лишь бы не отняли у нее театр. Она решила поселиться прямо здесь, перед Большим театром, неподалеку от фонтана, под яблоней, как когда-то в студенческие времена накануне утренней распродажи билетов. Ночью Яна уснула, погрузив руки по локоть в землю, крепко вцепившись пальцами в корни дерева, чтобы ее и во сне не унесла квадрига бронзовых коней, едва сдерживаемых Фебом Летоидом, вознесенных над портиком, покоящимся на восьми ионических колоннах. Над Яной, теряясь в звездах, плыла громада здания театра, подсвеченная прожекторами снизу и преображенная до неузнаваемости, похожая на торжественно летящий сквозь ночь и звезды корабль, заложенный славными зодчими Бове и Кавосом и нагруженный невесомой музыкой и танцем. В этом театре такая удивительная акустика, что и по сию пору в его бархатных закоулках бродят отзвуки увертюры из «Евгения Онегина» и «вальса обольщения Наташи Курагиным» из «Войны и мира» — оперы, написанной во дни другой, более страшной войны ее великим создателем, который умрет в один день с дьяволом, истерзавшим не только эту землю, но и ее музыку; море цветов затопит улицы города, словно стадо согнанных к катафалку фараона невольников, и ни один мартовский цветок не посмеет отлучиться к свежей могиле гениального композитора — лишь жена положит ему на грудь срезанную с подоконника веточку герани. Временами Яна слышит сквозь сон ту же «шепчущую музыку», которую слышал умирающий князь Андрей: тихий бег смычка виолончели по хроматическим ступеням и зыбкое движение аккордов хрупких и прозрачных скрипок...
«Жизель» — это история о том, как одна простая девушка полюбила принца, не зная, что он принц, а когда это узнала, сошла с ума от горя и умерла. Но она так любила его, что даже под землей не могла забыть о своей любви, по ночам вставала из могилы и все выглядывала, не идет ли принц. Там было много девушек, умерших из-за любви: как чайки над гладью морской, скрывающей погибшие корабли, носились они над своими воспоминаниями. В час, когда месяц льет свет, похожий на грозовое облако, когда гнилушки начинают светиться, как Млечный Путь, любовь поднимает их из могил. Они усыпляют кладбищенского сторожа, уносят его разбитый телефонный аппарат и начинают по очереди названивать своим возлюбленным, считывая их номера с черного звездного неба. Звездный ветер с нездешней силой гудит в проводах. В жилищах их возлюбленных начинают происходить разные чудеса: включит любимый электробритву в розетку, а оттуда льется печальная песня, станет повязывать галстук, а в зеркале отразится умершая девушка. И однажды ночью он не выдерживает: встает, осторожно укрывает одеялом жену и как сомнамбула идет через весь город, переливающийся странными огнями, на кладбище, и не успевает он ступить за ограду, как бедная девушка кидается ему на грудь, и оторвать ее от него уже не смогут ни мать, ни жена, ни дети, ни ангелы небесные.
Каждую ночь вокруг старых, странных дубов водят девушки хоровод, сквозят, как туман в росистой долине, а в это время ночные эльфы перестилают их могилы, сеют семена увядших цветов, сдувают пыль с воспоминаний, и они сверкают в луче месяца, как старинный клинок, сохраненный до поры в земле. Пыль времени покрывает все на свете, даже слезы матери, утратившей дитя, но любовь как живая вода струится меж корней травы забвения, и цветы, которые однажды выбрасывает земля, — это вечно живые цветы с надгробий вилисс — девушек, умерших от любви.

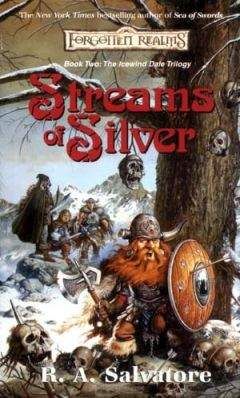
![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](/uploads/posts/books/66682/66682.jpg)