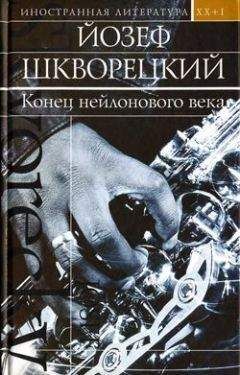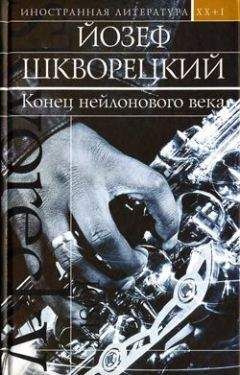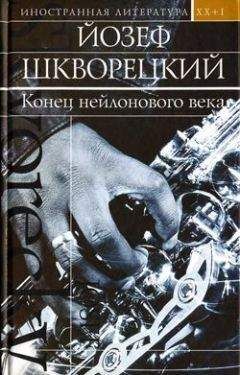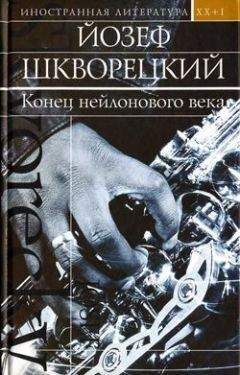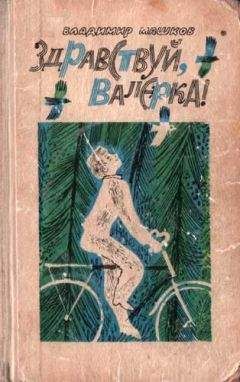Конец нейлонового века (сборник) - Шкворецкий Йозеф
Но жизнь, в принципе, всегда компромисс, и первым на него пошел патриарх Авраам, когда отдал в жертву вместо первородного сына обыкновенную овцу.
Мое мученичество состоялось на летних каникулах в пансионате Онкл[19] Губерта, где все говорили только по-немецки, а застигнутый при употреблении чешского тридцатикратно писал «Ich soll nicht tschechisch sprechen».[20] Благодаря этому методу чешский распространился там настолько, что даже дети, плохо знающие этот трудный славянский язык, с удовольствием его старательно ломали, чтобы только совершить проступок.
Семейный пансион Онкла Губерта был довольно-таки примечательным заведением. Его хозяин, директор и главный педагог Онкл Губерт, был евреем, английским подданным, родился в Австрии, жил в Чехословакии, а родной язык его был немецкий. Пансион предназначался для мальчиков и девочек от шести до четырнадцати лет; за девочками присматривала Танте[21] Верона, супруга Онкла Губерта, спортивная семитская дама со склонностью к курению и рукоделию, которая постоянно путала немецкие и французские слова, ибо родом была из Марселя.
Пансион был рассчитан на шестьдесят детей, и отдыхали в нем тогда двадцать девочек и сорок мальчиков, из которых восемьдесят процентов – семиты; почти все дети немецкий знали слабо. Онкл Губерт все же сумел создать впечатление, что молодежь, отданная под его опеку, сумеет за два месяца каникул выучить язык соседнего народа, находясь в исключительно немецком языковом пространстве.
Здесь я познакомился с Квидо Пиком, Аликом Мунелесом и Павликом Бонди – набожной троицей: в Праге они ходили в английскую гимназию, были обрезанные и на гектографе издавали журнал «Звезда Давида», который пропагандировал религию среди потомков Моисея.
Эта троица молилась со страстной увлеченностью, – или, по крайней мере, подобную страстность разыгрывала. Каждый вечер перед сном все трое доставали из тумбочек черные шестиуголънички и прикрепляли их ко лбу, пальцы переплетали чем-то похожим на вышитую епитрахиль, смиренно сгибались на своих постелях и принимались истово кланяться на восток, выкрикивая при этом одно за другим еврейские слова.
Черт его знает, может, они просто устраивали спектакль. Скорее так оно и было, но я страстно завидовал богатству и гласности их ритуалов, против которых моя коленопреклоненная молчаливая медитация выглядела бледно.
Особенно усердствовал толстяк Квидо Пик, который также стал главным авторитетом пансионата в вопросах еврейской веры или скорее религиозной практики. От него я узнал о фантастически сложной жизни еврея, опутанного сетью различных запретов, повелений, обычаев, обрядов, молитв и, главное, и прежде всего постов.
О постах толстяк Квидо Пик говорил с особым вдохновением. Он перечислял бесконечность их продолжительности, рассказывал о главном посте года, который якобы тянулся целый месяц: во время этого поста дозволяется есть не более ста граммов мацы утром, днем и вечером и запивать несладким чаем. Он говорил о мясном посте, когда целый месяц нельзя есть мясо, и о мучном, когда можно есть только картошку; о посте жирном, сладком, соленом и целом ряде других образцов религиозного садизма. Я слушал, страстно завидовал и, может быть, именно поэтому не думал о том, что мальчик Квидовых габаритов едва ли может придерживаться всех этих варварских предписаний; не пришло мне в голову, что как раз на летние месяцы не выпадает ни один из этих мясных, мучных или фруктовых постов и Квидо без всяких ограничений набивает брюхо колбасой, мясом и фруктами. Мне же оставался наш единственный убогий католический пятничный пост, который, – хоть я и соблюдал его в пансионате Онкла Губерта так ревностно, что в пятницу практически ничего не ел, – казался мне в сравнении с гаргантюанской голодовкой еврейской веры просто упражнением для начинающих.
Поскольку меня три этих неарийских дервиша прямо-таки достали, я придумал отчаянный план, как их переплюнуть.
Конечно же, над нашим религиозным усердием остальные мальчики – и христиане, и евреи – откровенно насмехались. Среди них особенно выделялся некий Эмиль Голас, сын владельца транспортного агентства из Праги. Религиозный интерес молодых христиан, говоря откровенно, исчерпывался особым состоянием половых органов некоторых еврейских мальчиков, и по настойчивому требованию христиан феномен этот был тайно исследован – ночью в спальне, когда погасили свет.
Я, конечно, в смотре не участвовал, так же, как и Квидо Пик; в тот момент, когда это происходило, а из соседней спальни доносился приглушенный гогот, мы усердно молились, стоя на коленях в своих постелях: Квидо с черным шестиугольником на лбу, который он называл смешным словом цицитл, и я, с образцово сомкнутыми руками и перекрещенными пальцами, взывали к одному и тому же Господу Богу, несогласные лишь в том, кем был его сын, и никто из нас не хотел закончить молитву раньше другого, никто не хотел показаться менее ревностным.
Поэтому часто случалось, что Квидо просыпался утром со своим черным шестиугольником на носу, обмотанный длинной вышитой шабесовой штолой.
Когда я почувствовал, что Квидово хвастовство становится невыносимым, мне пришла в голову одна идея. Мы лежали в своих постелях, изнуренные двухчасовым молением, время близилось к полуночи, и Квидо в полусне еще бормотал о каком-то великом посте, который совершается раз в пять лет и длится семь месяцев; в этот пост чередуются один день совсем без пищи и день только со ста граммами мацы и половиной литра несладкого чая. И в этом уродливом представлении мне засветила вдруг возможность превзойти Квидо: я заявил, что у нас, католиков, тоже есть пост, когда нельзя пить воду, и этот пост длится три дня, и начинается он уже завтра. В течение этого времени, заявил я, никто из христиан-католиков не должен пить ни воду, ни какие-либо другие напитки, содержащие воду: фруктовые соки, например, лимонад, минералку, содовую, а также алкогольные напитки. С завтрашнего утра, заявил я, мне всего этого нельзя пить. Квидо, пораженный, умолк, а я заснул с блаженным чувством триумфа.
Но уже на следующий день стало ясно, что водяной пост окажется делом нелегким. Августовская ночь была жаркой, а когда утром христианские и нехристианские мальчики наливали себе кто сколько хотел из большого кофейного кувшина, стоявшего на середине стола, я, жуя булку с маслом и джемом, испытывал странные чувства. Меня как-то особенно раздражал Квидо, который лопал от пуза, и кофе – чашка за чашкой – с провокационным бульканьем исчезал в его бездонном животе.
После завтрака была легкоатлетическая программа – метание диска, в котором я преуспевал. Я метнул его дальше других мальчиков, но когда в десять часов принесли второй завтрак и с ним большую бутыль газировки в ведерке со льдом, я ушел за кусты, где оказался большой муравейник, и там из кусков своего хлеба устроил муравьям золотой век изобилия.
В полдень мне уже казалось, что больше не выдержу, но я все же решительно отказался от бульона, потому что Квидо рассудил, что бульон – тоже напиток на воде, и мне пришлось это признать.
После обеда полагался двухчасовый сон. Для меня это значило два часа бдения с мучительной жаждой; потом наступила напряженная, страшно долгая вторая половина дня: волейбол и бесконечная прогулка к скалам; день завершился ужином: сосиски с картофельным пюре.
Вы когда-нибудь ели сосиски с картофельным пюре после двадцати четырех часов без единого глотка жидкости? Если нет, то вы ничего не знаете. Я заталкивал еду в себя маленькими кусочками, которые становились все меньше и меньше, но пюре не убывало; все уже отужинали, и Квидо Пик злорадно булькал холодным чаем из стеклянного кувшина, заливался им сверх меры и выпученными глазами следил за моими мучениями.