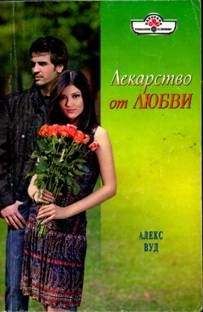Переходы - Ландрагин Алекс
— Вы не представляете, как далеки от истины. Я уж всяко не родственная душа.
Мы услышали вдалеке свисток. У нее за спиной на аллею, ниже по склону, свернул сторож и зашагал в нашу сторону.
— Не оборачивайтесь, — сказал я, — к нам идет охрана.
Женщина сунула пистолет в боковой карман платья.
— Месье, мадам, — произнес сторож, — вы слышали свисток. Боюсь, мы закрываемся.
— Да, конечно, — ответил я вполголоса, чтобы завуалировать акцент. Указал на калитку. — Сюда?
— Совершенно верно. Я и сам туда иду, запирать собираюсь. Провожу вас на выход.
Женщина взяла меня под руку и произнесла два слова, которые я никак не ожидал услышать: «Идем, дорогой». Пока мы шагали, она прижималась лицом к моему плечу, словно скрывая свои черты от сторожа. Я тогда так стосковался по ласке, что, невзирая на все обстоятельства, был рад даже ее суррогату.
Мы двигались вверх по склону к калитке, и тут сверху и слева в безоблачном синем небе прогремел раскат грома. Женщина не повернула лица. Через несколько секунд со всех сторон завыли сирены, предупреждая о воздушном налете, — впервые с начала вторжения.
— О-ля-ля! — выдохнул сторож. — Умеют же эти боши выбрать самый неподходящий момент!
Он довел нас до калитки, запер ее изнутри и, пожелав нам не обычного bonne soiree, но bon courage, зашагал прочь. Я воспользовался возможностью запустить руку незнакомке в карман и вытащить пистолет.
— Эй! — возмутилась она, отвесив мне пощечину. — Отдайте, а то закричу.
— Вряд ли кого-то это заинтересует, — ответил я, перебрасывая пистолет через кладбищенскую ограду, — в нынешних-то обстоятельствах. — За спиной у нас снова раздался свисток. Полицейский в черном плаще стоял на ближайшем перекрестке и вовсю размахивал руками в белых перчатках. — Указывает нам на ближайшее бомбоубежище.
Я взял женщину за руку, и мы бросились бежать, а вокруг завывали сирены. Остановились в центре перекрестка, постовой указал нам на бистро на углу. Кто-то бежал в ту сторону, другие просто застыли на тротуарах или балконах и смотрели в небо, обозревали небеса, будто наблюдая за каким-то астрономическим явлением. У бистро стоял мужчина в белой нарукавной повязке и в каске с предыдущей войны, загоняя проходивших внутрь. Мы зашли и протолкались между телами и плетеными стульями к люку за стойкой, из которого торчал конец лестницы-стремянки. Атмосфера была умиротворяющая: посетители, которых тревога застигла за аперитивом, все еще держали бокалы, один даже попытался спуститься на одной руке, но распорядитель быстро потерял терпение. Он стоял наверху лестницы с самокруткой во рту, сдвинув каску набекрень, и придерживал бокалы, сумочки и обувь, пока люди спускались.
— Давайте, — повторял он, — места всем хватит. — А потом, склонившись, рявкнул: — Эй, потеснитесь там!
Женщина полезла первой. Отпустила мою руку, и я только тогда сообразил: мы не размыкали рук все время, пока бежали. Внизу нас запихали в угол, притиснули друг к другу наплывом новоприбывших — последним оказался постовой, который нас сюда и загнал. Несколько человек остались снаружи, они громко жаловались, а распорядитель предлагал им поискать другое укрытие. Все это пронизывал дух импровизации: никаких тебе стульев, все стояли, в том числе и одноногий ветеран предыдущей войны. Вдоль стен тянулись полки с кругами сыра и стойки с пыльными бутылками вина и чего покрепче. С потолка свисали окорока и колбасы. Владелец бистро стоял в углу на ящике, уперев руки в бока, и высматривал потенциальных воришек.
Люк закрыли, и мы погрузились во тьму, которую едва разгонял свет единственной тусклой голой лампочки, свисавшей с потолка. В подвал набилось человек сорок-пятьдесят. Спутницу мою прижали ко мне, волосы ее соприкасались со щетиной у меня на подбородке. Вой сирен смолк, подвал заполнило душераздирающее молчание: все вслушивались, когда же с небес дождем польются трели уничтожения. Я гадал: а когда мы выберемся из укрытия, будет знакомый нам Париж еще существовать или нет? С другой стороны, подумал я, если здание над нами разбомбят, мы окажемся просто погребены заживо.
Я чувствовал, как незнакомка дрожит всем телом, будто пойманная птичка, и обхватил ее руками — не обнял, а попытался снять с нее вес сдавивших нас человеческих тел. Ноздри щекотал запах пота, рубашка сделалась липкой. Сердце бухало, каждый удар сопровождался резким уколом боли, напоминанием о моей смертности. От этой боли у меня имелись пилюли, но я их никогда не принимал. Щекой женщина вжалась мне в грудь. Мне тоже было страшно, но страшно мне было уже так давно, что застарелый страх сделался частью моего существа, заполз внутрь, оплел меня, будто лоза, и питался теперь тем же соком, который поддерживал жизнь и во мне.
Щелкнула крышка зажигалки. В дальнем конце помещения раздался голос: «Покурить нужно. У меня клаустрофобия». Запахло горящим табаком. Женщина в моих объятиях задрожала сильнее. Она сотрясалась всем телом. Я чувствовал, как среди молчания, взрывов, запахов мяса, сыров, пота и табака нарастает волна паники: по загривку и спине ползли капли пота. Сердце все ускоряло темп, дыхание участилось, за глазными яблоками сгущалась мигрень. Все мои чувства устремились вверх, за пределы подвала — понять, что там происходит, какова будет наша судьба, — и я утратил представление о времени. Стало казаться, что мы никогда уже не выйдем из этого подземелья, все умрем внутри, погребенные под грудой обломков. Я подумал про Роттердам: на то, чтобы превратить величайший порт Европы в свалку мусора, у немцев ушло всего четыре дня. «Мне нужно выбраться», — прошептал я скорее самому себе, чем кому-то еще. Почувствовал, как руки женщины еще крепче сжали меня за пояс. Непонятно как, но это неприметное ощущение будто сдвинуло что-то у меня внутри, паника, грозившая захлестнуть полностью, отступила.
Минута тянулась за минутой, и наверху стояла полная тишина. Казалось, Парижу даровали отсрочку смертной казни. Вновь завыли сирены, возвещая конец налета, — мы были свободны. Распорядитель забрался по лестнице, откинул люк. Над нами витал свежий воздух и приглушенный вечерний свет. Вспыхнули новые сигареты, среди собравшихся завязалась дюжина спонтанных разговоров. Все дожидались своей очереди подняться по лестнице. Некоторые остались пить и разговаривать в бистро, другие задержались на улице, под золотистым небом. Болтали, сговаривались встретиться снова и выпить вместе, пожимали руки, желали друг другу удачи.
Когда мы добрались до лестницы, женщина с кладбища стала подниматься первой. Я хотел было за ней последовать, однако уступил очередь пожилому господину, который ждал рядом. Когда я выбрался из подземелья, ее уже не было. Я выскочил на улицу, красный шиповник на черном шелке мелькнул на противоположном тротуаре. Между нами было уже полквартала — она бежала, держа туфли в руках. Я бросился вдогонку. Побегать после нашего краткого мучительного пленения оказалось приятно. А еще мне не хотелось, чтобы она исчезла. Она, сама того не ведая, непонятным образом помогла мне там, в подвале.
Я нагнал ее у задней калитки кладбища — она ухватилась за прутья решетки и трясла их, как будто калитка могла открыться по волшебству. Но та не поддавалась, женщина развернулась и привалилась к ней, осела на корточки, закрыла лицо руками. Я подошел.
— Что случилось? — спросил я, вставая на колено и дотрагиваясь до ее плеча.
Она посмотрела на меня так, будто видела впервые, глаза блестели от слез.
— Мне некуда пойти.
[193]
Квартира
Проснувшись, я увидел, что в глаза мне смотрят два угольно-черных глаза. Женщина с кладбища. Тыльной стороной пальцев она поглаживала свежую щетину у меня на щеке и бормотала что-то ободряющее.
— Вам кошмар приснился, — пояснила она.
— Я кричал?
Она кивнула.
— Простите, пожалуйста.
— Ничего. Вы же меня предупредили.
— Правда?
— Сказали, что вам каждую ночь снятся кошмары.