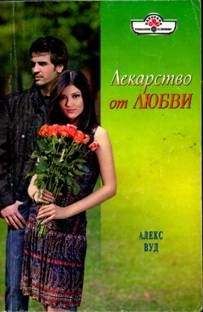Переходы - Ландрагин Алекс
Я оказался беженцем во времена, когда беженцев наблюдался избыток. После объявления войны всем немцам, в том числе и бывшим, велели явиться в полицию. Нас отправляли в наскоро сооруженные в сельской местности лагеря для интернированных. Почти всю предыдущую зиму я спал на бетонном полу шкального гимнастического зала в унылом уголке Нормандии, в окружении немцев.
Меня всю мою сознательную жизнь терзали ночные страхи, поэтому в лагере я ложился спать днем, а ночью бодрствовал: курил и играл в карты с другими жертвами бессонницы, потому как в противном случае боялся перебудить всех своими криками. В конце концов, когда стало ясно, что зимой вторжения не последует, нас выпустили. Через девять месяцев, после нападения вермахта, бывшим немцам еще раз приказали явиться в полицию. На сей раз я решил, что так просто им не дамся.
Простейший способ избежать столкновений с тайной полицией — выходить на прогулку на рассвете. По неведомой причине все облавы Surete nationale проводила перед завтраком. Кроме того, я постановил для себя не заговаривать с незнакомцами — из страха, что меня выдаст акцент, — и тем самым лишил себя одной из величайших радостей в жизни. Акцент не спрячешь. От него не избавиться, сколько ни упражняйся, как ни берегись. Любое слово, произнесенное за пределами круга друзей, любой исторгшийся из моего рта звук мог обличить во мне boche, a chleuh, a fridolin. В одном со мной здании на улице Домбаля жили двое моих друзей: Артур, журналист-венгр, и Фриц, хирург, знакомый мне еще по Берлину, — теперь он зарабатывал подпольными абортами. За определенную мзду домохозяйка смотрела сквозь пальцы на некоторые нестыковки в наших документах. Субботними вечерами мы сходились поиграть в покер. Иногда я пил кофе в одном из кафе, где собирались обменяться обрывками сведений немецкие эмигранты. Соблазнительно было верить, что, набрав побольше таких лоскутков, можно соткать себе защитный кокон, однако сведения были ненадежные, а кроме того, такие притоны кишели шпионами и доносчиками.
После долгих прогулок я часто возвращался к себе на квартиру через Монпарнасское кладбище. То был островок спокойствия в океане хаоса. Здесь я был вне опасности, будто выходил на миг из зала с кривыми зеркалами, в который превратился город. Становился гигантом посреди города в миниатюре. Надгробия, величественные и незамысловатые, ухоженные и заброшенные, в зависимости от везения тех, кто под ними покоился, превращались в миниатюрные здания на миниатюрных проспектах. Войдя через главные ворота на бульваре Кине, я поворачивал направо на авеню Дю-Бульвар, проходил мимо еврейского участка (кладбищенского гетто) и сворачивал влево на Западную авеню, где в фамильном склепе на небольшом возвышении, между матерью, которую любил слишком сильно, и отчимом, которого терпеть не мог, покоится Шарль Бодлер. На могиле всегда лежали цветы, принесенные его поклонниками, а также записочки: несколько строк из его стихотворения, чей-то подражательный стих — все это открывало потайную дверь в скрытую вселенную томления. Я шел дальше вверх по склону, по Западной авеню, к дальней стене кладбища, и сквозь узкую калитку в углу попадал назад в суету города.
Что касается женщины, стоявшей перед могилой Бодлера, она была — по крайней мере, пока — незнакомкой. При этом видел я ее не впервые. Первая наша встреча случилась прошлой зимой, вскоре после моего возвращения из лагеря, и тогда эта женщина куталась в просторное двубортное пальто. Вторая состоялась всего несколько недель назад, когда на липах начали распускаться почки. И вот — третья встреча, незнакомка неподвижно стояла точно на том же месте, точно в той же позе, точно в тот же час, и в золотистом свете уплывали прочь клубы синевато-серого дыма. Ее окружало плотно закупоренное, свирепо оберегаемое молчание. Казалось, что в глубине души она не ведала о существовании чего бы то ни было, кроме могилы прямо перед ней, — не было для нее прохожих, не было чириканья птиц и гула машин вдалеке, не было и того, что нависало сверху: крутого кряжа фиолетовых туч, увенчанного короной солнца.
Я прошел так близко, что уловил легкий запах сандалового дерева, и двинулся, не останавливаясь, вверх по склону. Кроме нас двоих на кладбище не было ни души. Ни погребальных процессий, ни скорбящих родственников, пришедших почтить усопших, ни зевак, ни паломников, разыскивающих могилы местных знаменитостей, не было даже садовника, ухаживающего за посадками. Тишина особенно явственно подчеркивала, что здесь, куда ни глянь, разбитые сердца. «Любовь мимолетна, тоска вечна», — гласила надпись на одном из надгробий. На полпути от могилы до калитки я обернулся посмотреть, ушла незнакомка или нет. Она даже не пошевелилась. У самой калитки я еще раз глянул через плечо. Исчезла. Я остановился и, после мгновенного колебания, повернул назад в твердом намерении последовать за ней.
Между надгробиями мелькнули цветы шиповника — незнакомка стремительно удалялась в сторону центра кладбища по Поперечной авеню. Видимо, мы с ней представляли странное зрелище: она виляла между могилами, я семенил по параллельной дорожке вдоль задней стены кладбища, выше по склону, время от времени нагибаясь перед очередным склепом, чтобы вглядеться в разделяющий нас мраморный лес. Но на кладбище никого больше не было, некому было разглядывать этот изумительный танец.
Чтобы не отстать, приходилось торопиться. Я шел нагнув голову, время от времени подмечая вдалеке промельк красного и черного. Женщина метнулась к очередному склепу, огляделась, будто проверяя, не преследуют ли ее. Мне в прошлом не приходилось вот так вот гоняться за дамами. А теперь зачем? Понятное дело, из любопытства. А может, причиной стала тревожная скука тех дней. Помню, я вдруг осознал, что мне это занятие нравится. Она пересекла круглую площадку в центре кладбища, где на пьедестале с надписью «Память» стоял безутешный ангел, и скрылась в настоящей чаще надгробий. Я остановился, осмотрелся. Пропала без следа. Подошел туда, где видел ее в последний раз, в точку слияния Западной и Поперечной авеню. Никакого следа. Исчезла. Я осмотрелся, сердце в груди гудело, глаза щурились под напором солнца. В этой части кладбища я раньше не бывал. Слева стояла стела из грязноватого серо-розового мрамора. На ней были выбиты слова «Бодлеровское общество», далее значились следующие имена:
Эдмонда, герцогиня де Бресси, 1845–1900, основатель и президент
Люсьен Рёг, 1866–1900, секретарь
Ипполит Бальтазар, 1876–1917, секретарь
Аристид Артопулос, 1872–1923, президент
Я ощутил, что за спиной у меня кто-то стоит, услышал щелчок предохранителя. Обернулся и увидел женщину, которую преследовал, — она целилась мне в грудь из маленького пистолета.
— Кто вы? — произнесли мы одновременно и остались стоять, молча вытаращившись друг на друга.
Рука, державшая пистолет, слегка дрожала. Черты лица женщины — лица элегантной азиатки лет сорока — были неприукрашенными и суровыми.
— Почему вы меня преследуете? — спросила она. — Что вам от меня нужно?
У нее тоже был акцент. Музыка ее речи, ее ритмический рисунок казались необычными, но чем именно, мне было не определить. Иностранец не только говорит с акцентом, он еще и не способен выявить чужой акцент.
— Увидел, что вы стоите у могилы Бодлера, и… — Она никак не отреагировала. У меня возникло ощущение, что все происходит во сне, а не наяву. — Я им тоже восхищаюсь. — Вид у нее был одновременно и грозный, и беззащитный. — Я уже видел вас раньше, стало любопытно… — Понял, что несу вздор. Перевел взгляд на направленное на меня оружие: «ремингтон», пользуется большой популярностью удам определенного толка. Вот только противница моя была, похоже, не такого толка. Она явно не привыкла пользоваться оружием. Держала пистолет обеими руками, ствол подрагивал, соберется стрелять — наверняка закроет глаза. — Похоже, вам никогда еще не приходилось стрелять из пистолета.
— Не искушайте. Как вас зовут?
— Меня зовут… — Тут я осекся. Я с самого начала войны взял за правило никому без крайней необходимости не сообщать своего имени. Еврейское имя в сочетании с немецким акцентом — в нынешние времена ни к чему хорошему это не приведет. — Я… — Но и этот подход показался вдруг столь же безнадежным. Кто я на самом деле такой? В тени войны звание писателя выглядело до предела фривольным и абсурдным. А если я не писатель, то кто? Бывший немец, еврей, изгнанник, холостяк, ученый, фланер, отщепенец, неудачник — все эти определения в равной степени соответствовали и не соответствовали действительности. — Я поклонник Бодлера. Потому и пошел за вами. Решил, что мы родственные души.