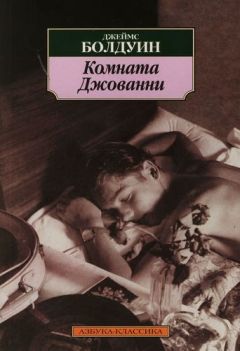Джеймс Болдуин - Комната Джованни
И не дожидаясь моего ответа, продолжал:
– Когда я был помоложе, с такими людьми мне не приходилось сталкиваться. У нас в Италии все такие общительные, мы поем, танцуем, любим друг друга, а эти парижане, – Джованни окинул взглядом бар и, допив свою кока-колу, бросил, – ужасно холодные. Не понимаю я их.
– А французы говорят, – дразнил я Джованни, – что итальянцы ветрены, несерьезны и не знают чувства меры…
– Меры! – возмутился он. – Ох, уж эти мне французы с их чувством меры! Все они вымеряют по граммам, по сантиметрам, годами копят барахло, целые кучи накапливают, сбереженья держат в чулке, а какой им прок от этой меры? Франция с истинно французской размеренностью на глазах у них разваливается на куски… Им, видишь ли, меру подавай! Простите за грубость, но эти французы все вымеряют и высчитают, прежде чем лечь с вами в постель. Это уж точно. Можно вам еще предложить выпить? – неожиданно спросил он. – А то ваш старик придет. Он вам кто? Дядя?
Я не знал, было ли это брошенное им «дядя» эвфемизмом или нет; мне страшно хотелось поскорее растолковать Джованни, что и как, но я не знал, с чего начать, и засмеялся.
– Да нет, какой он мне дядя? Так, знакомый.
Джованни не сводил с меня глаз, и тут я почувствовал, что никто в жизни не смотрел на меня так, как он.
– Надеюсь, вы к нему не очень привязаны, – с улыбкой сказал Джованни, – он же наверняка дурачок. Нет, человек он, видно, неплохой, просто дурачок.
– Наверное, – ответил я и вдруг понял, что совершил предательство, – он неплохой человек, – поспешно добавил я, – в самом деле, славный тип.
«Тоже врешь, – пронеслось в голове, – он далеко не такой уж славный».
– Но привязанности к нему у меня нет, – и я снова почувствовал, как голос странно зазвенел, а в груди что-то сжалось.
Джованни предупредительно налил мне стакан.
– Vive l'Amérique,[21] – сказал он.
– Спасибо, – сказал я и поднял стакан. – Vive le vieux continent.[22]
Мы помолчали.
– А вы часто заглядываете сюда? – в упор спросил Джованни.
– Нет, – ответил я, – не очень.
– А теперь вы будете приходить почаще? – продолжил он свой допрос, и лицо его просияло от подкупающего лукавства.
– А зачем? – заикаясь, пробормотал я.
– Как?! – воскликнул Джованни: – Неужели вы не поняли, что у вас тут завелся друг?
Я знал, что лицо у меня в эту минуту идиотское и что вопрос мой тоже идиотский.
– Так быстро?
– Почему же нет? – серьезно ответил он и посмотрел на часы. – Можно, конечно, часок подождать, если вам угодно, и стать друзьями потом или подождем до закрытия, тогда тоже еще не поздно подружиться. Или обождем до завтра, только завтра у вас, наверное, есть другие дела.
Джованни отложил в сторону часы и облокотился на стойку.
– Скажите мне, – заговорил он, – а что такое время? Почему лучше проволынить, чем поспешить? Только и слышишь: «Нам надо подождать, надо подождать». А чего ждать?
– Как чего? – Я почувствовал, что Джованни затягивает меня в глубокий и опасный омут. – Думаю, люди ждут, чтобы окончательно проверить свои чувства.
– Ах, чтобы проверить? – И он снова повернулся к своему незримому собеседнику – и рассмеялся.
Мне вдруг показалось, что Джованни – призрак, чье появление наводит страх, и смех его звучал донельзя странно в этом безвоздушном тоннеле.
– Сразу видно, что вы настоящий философ. А когда вы раньше ждали, оно говорило вам, – и Джованни указал пальцем на сердце, – что чувства проверены?
Я не нашелся, что ответить на этот вопрос. Из темной глубины переполненного зала кто-то крикнул «Garçon!»,[23] и Джованни с улыбкой отошел от меня.
– Теперь можете подождать. А когда я вернусь, скажите, проверили себя или нет.
Он взял круглый металлический поднос и проскользнул в зал. Он шел, а я не сводил с него глаз, замечая, что остальные посетители не спускают с меня глаз. И тут на меня напал страх. Я знал, что они не спускали с нас глаз и оказались невольными свидетелями начавшегося романа, и теперь они не успокоятся, пока не увидят развязки. Словом, прошло немного. времени, и мы поменялись ролями – теперь я сидел в клетке зоосада, а они глазели на меня.
Я довольно долго проторчал в одиночестве у стойки, потому что этот чертов Жак, удрав от Гийома, тут же ввязался в беседу с двумя тонкими, как лезвие ножа, мальчиками. Джованни на минуту появился передо мной и подмигнул.
– Ну, как, проверили?
– Ваша взяла! Философ-то, оказывается, вы!
– О, вам лучше еще немного подождать. Вы же меня плохо знаете, а говорите такие вещи.
Он поставил стаканы на поднос и снова исчез.
И тут из полумрака вынырнул какой-то тип, которого я раньше не видел, и направился в мою сторону. С виду не то мумия, не то живой труп – первое впечатление было удручающим, и шел он так, точно его только что выпустили из камеры смертников. В его походке было что-то сомнамбулическое, будто он двигался в замедленном кадре на экране. Это странное существо шло на цыпочках, зажав в руке стакан и поводя плоскими бедрами с какой-то чудовищной, отвратительной похотью. Казалось, оно движется бесшумно: в баре стоял страшный оглушительный гвалт, доносящийся издали словно рокот моря. В тусклом свете вырисовывалась фигура: жиденькие черные патлы, сильно набриолиненные и спадающие челкой на лоб, веки густо намазаны тушью, губы – вызывающе яркой помадой. Лицо белое, совершенно бескровное от толстого слоя крема; от него пахнуло пудрой и духами с запахом гардении. Из-под рубашки, кокетливо расстегнутой до пупа, выглядывала безволосая грудь, украшенная серебряным распятием. Рубашка была усеяна тонкими, как папиросная бумага, кружками – красными, зелеными, оранжевыми и желтыми, на свету от них рябило в глазах и казалось, что эта мумия вот-вот вспыхнет и сгорит дотла. Талию перехватывал красный кушак, а узкие брюки были, как ни странно, обычного темно-серого цвета, ботинки с пряжками. Мне и в голову не пришло, что он направляется ко мне, и я смотрел на него, как зачарованный. Он встал передо мной, подбоченился, смерил меня взглядом и ухмыльнулся. Он жевал чеснок, зубы у него были гнилые, а руки, к моему неописуемому ужасу, сильные и огромные, как клешни.
– Eh bien, – сказал он, – il te plaît?[24]
– Comment?[25] – спросил я.
Я и вправду не знал, правильно ли я его понял. Но он смотрел на меня так, словно разглядел в моем мозгу что-то затаенное и весьма забавное.
– Тебе нравится бармен?
Я не знал, как поступить и что ему сказать. Дать по роже было глупо, да и кипятиться, вроде бы, тоже. Все было, как во сне, и сам он будто мне приснился. Впрочем, что я ему ни скажи, его глаза обдали бы меня насмешкой.