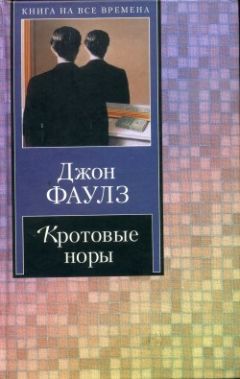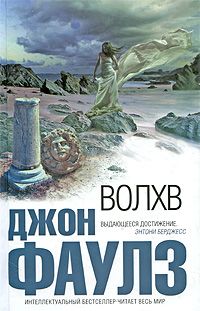Джон Фаулз - Куколка
— А что, Фанни, не отослать ли тебя обратно к Клейборн? Дабы она высекла тебя за угрюмость твою.
Девушка замерла и молчит, не выказывая удивления, что ее называют иным именем.
— Не для ублаженья ли прихотей моих я нанял тебя?
— Да, сэр.
— Чтоб ты представила похабные шалости, французские, итальянские и прочие.
Девица молчит.
— Стыдливость гожа тебе, как шелка навозу. Сколько мужчин проткнули тебя за последние полгода?
— Не помню, сэр.
— Способы тож запамятовала? Прежде чем мы сладились, Клейборн все об тебе поведала. Французская хворь и та чурается твоей изъязвленной плоти. — Мистер Бартоломью разглядывает девушку. — Пред всяким лондонским соромником ты изображала мальчика. И облачалась в мужское платье, дабы потрафить его похоти. — Взгляд джентльмена неотступен. — Отвечай же: да иль нет?
— Я надевала мужской наряд, сэр.
— За что гореть тебе в геенне огненной.
— Не мне одной, сэр.
— Дважды будешь поджарена, ибо искус — в тебе. Неужто думаешь, что в гневе своем Господь не различит падших и совратителей? Не отделит слабость Адама от злоухищренья Евы?
— Не ведаю, сэр.
— Так знай же. А еще знай, что сполна окупишь потраченные мною деньги, угодно тебе иль нет. Видано ль, чтоб наемная кляча управляла наездником?
— Я исполняла вашу волю, сэр.
— Будто бы. Дерзость твоя неприкрыта, как груди твои. Ужель я настолько слеп, что не замечу тот взгляд твой у брода?
— Так то всего лишь взгляд, сэр.
— А цветочный пучок под носом твоим — всего лишь фиалки?
— Да, сэр.
— Лживая тварь.
— Нет, сэр.
— А я говорю — да. Я прочел твой взгляд и знаю, для чего понадобились зловонные цветки.
— Просто так, сэр. Я ничего не замышляла.
— Клянешься?
— Да, сэр.
— Тогда на колени. Вот здесь. — Мистер Бартоломью показывает на пол перед собой; помешкав, девушка встает на колени, голова ее опущена. — Смотреть на меня.
Взгляд серых глаз впивается в карие глаза на запрокинутом лице.
— Теперь повторяй: я срамная девка…
— Я срамная девка…
— Нанятая вами…
— Нанятая вами…
— Дабы всячески вас ублажать.
— Дабы всячески вас ублажать.
— Я Евино отродье, наследница ее грехов.
— Я Евино отродье…
— Наследница ее грехов.
— Наследница ее грехов.
— Повинна в дерзости…
— Повинна в дерзости…
— От коей впредь отрекаюсь.
— От коей впредь отрекаюсь.
— Клянусь.
— Клянусь.
— Иль гореть мне в аду.
— Гореть в аду.
Мистер Бартоломью долго не отводит взгляд. В его бритоголовой фигуре проступает нечто демоническое — не злость или какое иное чувство, но дьявольски холодное безразличие к женщине, стоящей перед ним на коленях. В нем угадывается доселе скрытая черта его натуры, противоестественная, как напитавший комнату запах горелой бумаги и кожи: садизм (хотя де Саду до своего рождения еще четыре года блуждать по темным лабиринтам времени). Если б кому понадобилось представить пугающий образ бесчеловечности, сейчас он был налицо.
— Отпускаю твой грех. Теперь обнажи мерзкую плоть свою.
Потупившись, девушка встает и начинает распускать шнуровку. Мистер Бартоломью сурово наблюдает из кресла. Девушка чуть отворачивается; затем присаживается на дальний край скамейки, куда сложила одежду, и, сняв подвязки, скатывает чулки. Голая, в одном лишь чепчике и сердоликовом ожерелье, она понуро складывает руки на коленях. В ней нет тогдашней модной мясистости: тело стройно, грудь маленькая, на очень белой коже никаких язв, что давеча поминались.
— Желаешь, чтоб он обслужил тебя?
Девушка молчит.
— Отвечай!
— Томлюсь по вашей милости. Но вам я не угодна.
— Да нет, томишься по его елде.
— То была ваша воля, сэр.
— Чтоб поглядеть, как ты резвишься в блуде, а не воркуешь голубицей. Познав прекрасное, не стыдно ль пасть столь низко?
Молчание.
— Говори!
Набычившись, девушка затравленно молчит. Мистер Бартоломью переводит взгляд на Дика; в глазах того и другого вновь мелькает загадочное выражение, словно они смотрят на пустую страницу. Хозяин не подал никакого знака, но Дик резко выходит из комнаты. Девушка удивленно взглядывает на дверь, однако ни о чем не спрашивает.
Мистер Бартоломью подходит к камину и, сгорбившись, кочергой аккуратно подгребает в огонь уцелевшие бумажные клочки. Затем выпрямляется и смотрит на тлеющие поленья. Медленно подняв голову, девушка разглядывает его спину. Какая-то мысль затуманивает ее карие глаза. Беззвучно ступая босыми ногами, она приближается к бесстрастной фигуре и что-то ей шепчет. О предложении ее догадаться нетрудно, ибо руки ее опасливо, но умело обхватывают талию молодого джентльмена, а обнаженная грудь легонько прижимается к его обтянутой парчовым сюртуком спине, будто на парной верховой прогулке.
Мистер Бартоломью тотчас перехватывает ее руки, не давая им сцепиться.
— Ты глупая лгунья, Фанни. — Голос его вдруг утратил злобную желчность. — Я слышал твои стоны, когда давеча он тебя охаживал.
— То лишь притворство, сэр.
— Однако ж сладкое.
— Нет, сэр. Для вас хочу усладой быть.
Мистер Бартоломью молчит, и девушка вновь пытается его обнять, но теперь он отбрасывает ее руки.
— Оденься. И я скажу, как усладить меня.
— Я всей душою, сэр, — не отстает Фанни. — Так разъярю, что он восстанет, точно жезл, и уж на славу меня отдерете.
— У тебя нет души. Прикрой срам. Прочь!
Девушка одевается; мистер Бартоломью, отвернувшись, в глубокой задумчивости стоит у камина. Одевшись, девушка присаживается на скамейку и ждет; потом нарушает затянувшееся молчание:
— Я оделась, сэр.
Будто очнувшись, молодой джентльмен косится на нее, а затем вновь устремляет взгляд на огонь.
— Когда впервые ты согрешила?
Девушка не видит его лица, но, расслышав в голосе неожиданную нотку любопытства, медлит с ответом.
— В шестнадцать, сэр.
— В борделе?
— О нет. С хозяйским сыном, где была в служанках.
— В Лондоне?
— В Бристоле. Оттуда я родом.
— Он тебя обрюхатил?
— Нет, сэр. Его мамаша нас застукала.
— И дала расчет?
— Шваброй.
— Как оказалась в Лондоне?
— Голод пригнал.
— Ты сирота?
— К родителям дороги не было. Они Друзья.
— Что за друзья?
— Так прозывают квакеров{13}, сэр. Хозяева были той же веры.
Мистер Бартоломью расставляет ноги и закладывает руки за спину.
— Что дале?
— Еще до того, как нас накрыли, дружок мой подарил мне перстенек, который спер из мамашиной шкатулки. Я знала: покража откроется и во всем обвинят меня, ибо сынка никто не очернит. Кое-как сбыла перстенек, приехала в Лондон, нашла место. Думала, свезло. Ан нет — хозяин стал меня домогаться. Пришлось уступить, чтоб не лишиться места. Но жена его обо всем вызнала, и я опять оказалась на улице, где стала б нищенкой, потому как честной работы найти не могла. Чем-то не нравилась я хозяйкам, а нанимают-то они. — Помолчав, Фанни добавила: — Нужда заставила, сэр. Как многих из нас.