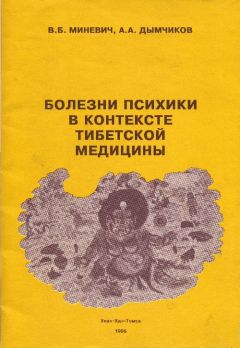Владимир Сорокин - Сахарный кремль
Государыня проснулась.
Открыла полные слез глаза. Рядом с ложем стояла служанка.
— Что? — хрипло спросила государыня, приподняла голову и, тяжело вздохнув, откинулась на подушки.
Служанка молча отерла ей глаза платочком.
— Ох… Боже мой… — произнесла государыня, тяжко дыша. — Скинь.
Служанка откинула с нее пуховое одеяло. Государыня лежала в розовой, под цвет спальни, полупрозрачной сорочке. Спящая в ее ногах левретка встала, зевнула, отряхнулась, завиляла тонким хвостом и, потягиваясь, пошла по постели к лицу хозяйки. Государыня лежала, тяжело дыша. Большая грудь ее колыхалась в такт дыханию. Левретка подошла к ее лицу, стала лизать нос и губы.
— Отстань… — отпихнула ее государыня.
Левретка спрыгнула с кровати, побежала в открытую дверь, ведущую в ванную комнату. Государыня заворочалась, тяжко дыша, стараясь сесть, служанка подхватила ее под полную белую руку, помогая, стала подкладывать под спину подушки розового шелка.
Государыня села, откинувшись на холмик из подушек. Развела полные белые ноги, подняла расшитый кружевами подол сорочки, провела рукой по гладко выбритой промежности, поднесла к лицу. Ладонь была мокрой. Государыня показала ладонь служанке:
— Вот.
Служанка скорбно качнула русой, аккуратно причесанной головкой, приняла государыневу длань, стала деликатно обтирать ее ладонь платочком.
— А все, потому что третью ночь уже одна сплю.
Служанка сочувственно качала головкой.
— О-о-о-ох! — громко выдохнула государыня и посмотрела в расписной потолок.
На потолке в облаках боролись за чье-то пылающее сердце пухлявые амуры.
Левретка вбежала в спальню, вспрыгнула на кровать, стала лизаться. Государыня обняла ее, прижала к своей колышащейся груди:
— Коньяку.
Служанка быстро наполнила стоящую на резном столике рюмку из хрустального графина, поднесла на золотом блюде с уже нарезанным и посыпанным сахарной пудрой ананасом. Государыня выпила залпом, сунула в рот кусочек ананаса и зажевала полными губами. Служанка стояла с подносом, со сдержанным обожанием глядя на госпожу.
— Дай-ка мне… — государыня поставила пустую рюмку на поднос.
— Маслинку? — спросила служанка.
— Да нет… это… — государыня взяла еще ананаса, пошарила по спальне влажными черными глазами.
— Табачку нюхнуть изволите?
— Да нет. Ну… это!
— Мобило?
— Да. Наберика-ка мне Комягу.
Служанка взяла со столика золотое мобило в форме рыбки с большими изумрудными глазами, набрала. Мобило ответило переливчатым перезвоном. Рыбка выпустила изо рта голограмму: холеное, озабоченное лицо Комяги в кабине «мерина». Держа руль, Комяга склонил голову с завитым, позолоченным чубом:
— Слушаю, государыня.
— Ты где? — спросила государыня, жуя ананас.
— Токмо что из Тюмени прилетел, государыня. Еду по Киевскому тракту.
— Лети сюда. Мухой.
— Слушаюсь.
Голограмма исчезла.
— Пора ведь, а? — рыгнув, государыня посмотрела на служанку.
— Пора, государыня, — с тихим восторгом произнесла та.
— Пора, пора, — государыня заворочалась, сбросив с груди левретку.
Служанка подставила руку, государыня оперлась, встала. Встряхнула черными, густыми, кольцами рассыпавшимися по плечам волосами. Потянулась полным телом, застонала, морщась, взялась за поясницу. Шагнула к зашторенному окну, коснулась пальцем розовых штор. Шторы послушно разошлись.
Государыня увидела в окно сквер с голубыми елями и снегом на них, Архангельский собор, часть соборной площади с нищими и голубями, стрельцов в красных шинелях и со светящимися синим алебардами, стражников с булавами, монахов-просителей с железными торбами, юродивого Савоську с дубиной. Поодаль, за белым углом Успенского собора виднелась черная, чугунная царь-пушка. Рядом с ней на фоне снега чернела пирамида из ядер. Государыня вспомнила белое, гладкое, прохладное ядро и коснулась ладонью своего теплого живота.
— Пора, — произнесла она еле слышно и щелкнула ногтем по пуленепробиваемому стеклу.
Харчевание
Громкий, раздражающий своей слепой беспощадностью, противный человеческому уху, резко-переливчатый сигнал круглого серого, нагретого полуденным солнцем динамика спугнул присевших на него и уже спарившихся было стрекоз, растекся в жарком июльском воздухе Восточной Сибири, будя вечную тишину сопок и неба, заглушая однообразные звуки работающих каменщиков, скрип палиспаса, бормотание бригадира, зудение мошки, отсеченной ультразвуковым периметром от рабочей зоны, уплыл к поросшим хвойным редколесьем сопкам, отразился от них и тут же вернулся, чтобы отразиться уже второй раз — от самой возводимой Стены, белой плавной полосою ползущей через сопки и исчезающей за ними на неровном голубом горизонте.
— Тьфу ты, кикимора, что б тебя… — Сан Саныч вытер взмокший лоб, плюнул в сторону столба с пронзительным динамиком, но слюны в пересохшем рту не оказалось.
Он вытянул из наколенного кармана робы узкую пластиковую бутылку с водой, сдвинул пальцем мягкую пробку из живородящей резины, жадно припал сухими губами. Теплая вода забулькала в его горле, поросший седой щетиной кадык болезненно задергался.
— Шабаш, православные! — рослый, сутулый и узкоплечий Савоська сунул мастерок в пластиковое корыто с раствором, распрямился со стоном, потер поясницу, свесился с лесов:
— Хорош!
Бочаров и Санек, работающие внизу на палиспасе, подающим наверх белые пеноблоки, тут же приостановили колесо. Корзина с пеноблоками зависла в воздухе. Бочаров сощурился, глядя на Стену из-под тяжелой, смуглой руки:
— Аль не примете?
— Опускай! — хромой, горбоносый, вечно обозленный, Зильберштейн по кличке Подкова, напарник Савоськи, сплюнул вниз. — Работа — не волк, а харч — не лаовай![6]
— Иншалла! Уже двенадцать? — радостно ощерился беззубый, бритоголовый и широколобый Тимур.
— Це ще не тринадцять, хлопче, — устало усмехнулся жилистый, носатый Савченко и стал стряхивать с рук в ведро прилипший раствор, поглядывая в чистое, безоблачное небо. — Да тильки нэ бачу я архангелив. А дэ ж вони?
И словно по команде, из-за гряды голубовато-зеленых, дальних сопок показались три точки. Вскоре послышался звук летящих вертолетов.
— Летит, родимый, — тихий, коренастый, белотелый и беловолосый Петров опустил пеноблок на свежую кладку, подобрал мастерком выдавленный раствор, сбросил в корыто, принялся чистить мастерок о торец пеноблока. — Слава тебе, Господь Вседержитель, до обеда дожили…