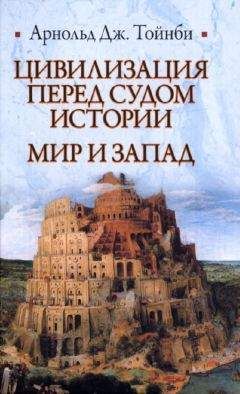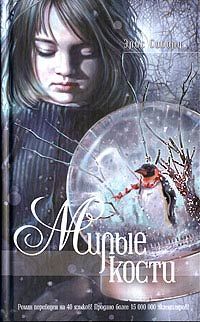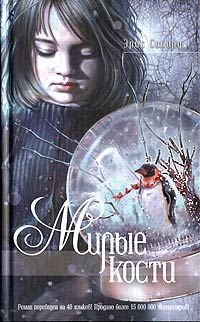Элис Сиболд - Милые кости
Линдси обвела пальцем лоток для украшений, стоявший у меня на комоде: я складывала туда значки избирательных кампаний и школьных праздников. Предметом особой гордости был найденный на школьной стоянке розовый кругляш с надписью: «Хиппи за любовь». Правда, мама взяла с меня обещание никогда его не носить. Лоток давно переполнился, но значки во множестве красовались еще и на огромной войлочной эмблеме Индианского университета, который заканчивал папа. Я заподозрила, что Линдси сейчас разживется парочкой значков, но она этого не сделала. Даже не притронулась. Просто обвела кончиками пальцев содержимое лотка. Тут ей на глаза попался плотный белый уголок, торчащий снизу. Она потянула.
Это было то самое фото.
Линдси резко выдохнула из себя весь воздух и с раскрытым ртом села на пол, не выпуская из рук снимок. Мир вокруг нее всколыхнулся и затрепетал, как палатка, сорванная ветром. Она, как и я в свое время, впервые увидела в маме незнакомку. На следующих кадрах мама была запечатлена с усталой улыбкой. В тени кизилового дерева, вся в солнечных бликах. Рядом с Холидеем. И я не хотела, чтобы кто-то еще в семье знал мою маму совсем другой — чужой и непонятной.
Впервые я пробилась к ним в тот день, когда случилось крушение. 23 декабря 1973 года. Бакли еще спал. Мама повезла Линдси к зубному. Они всей семьей договорились посвящать каждый день этой недели какому-нибудь полезному делу. Папа обязался расчистить верхнюю гостевую спальню, которую давно занял под свои нужды.
У своего отца он научился мастерить парусники в бутылках. Мои брат с сестрой и мама проявляли полное равнодушие к этим поделкам. А я была до них сама не своя. В мастерской стояла целая флотилия.
На работе папа целый день занимался цифрами — страховая компания «Чаддс Форд» требовала от своих служащих предельной сосредоточенности, — а по вечерам, чтобы расслабиться, мастерил парусники или читал книги про войну Севера и Юга. Приготовившись поднять паруса, он всякий раз призывал меня. Судно уже было приклеено к бутылочному стеклу. Я входила; папа требовал поплотнее закрыть дверь. Нередко мне казалось, что мама только и ждет этого момента, чтобы тут же позвать нас ужинать, — ее шестое чувство пресекало любые занятия, не имеющие к ней прямого отношения. Но когда шестое чувство ее подводило, мне выпадала честь держать бутылку.
— Смирно! — командовал папа. — Назначаю тебя первым штурманом.
С величайшей осторожностью он дергал за единственную нитку, которая еще торчала из бутылочного горлышка, и — алле-оп! — все паруса разом поднимались, хоть на простом баркасе, хоть на клипере. Судно могло отправляться в плавание. Меня так и тянуло захлопать в ладоши, но нельзя было выпускать из рук бутылку. Папа действовал быстро: раскалял в пламени свечи проволоку от металлической вешалки и пережигал нить у самого основания. Одно неосторожное движение — и вся работа насмарку; хорошо еще, если не вспыхнут крошечные бумажные паруса. Кому охота держать в руках бутылку, полную огня?
Со временем папа освободил меня от обязанностей первого штурмана, соорудив подставку из пробкового дерева. Линдси и Бакли никогда не разделяли моего восторга. Не добившись одобрения домашних, папа мрачнел и ретировался в мастерскую. А им что один парусник, что другой — никакой разницы.
Почему-то в тот день, разбирая свою коллекцию, папа обращался ко мне.
— Сюзи, дочурка, морячок мой, — приговаривал он, — тебе больше всего нравились вот эти, небольшие.
Я смотрела, как он расставляет парусники на верстаке, снимая их с полок. Для вытирания пыли использовалась старая мамина рубашка, разорванная на полоски. Под верстаком хранились батареи пустых бутылок, которые мы запасали впрок. Стенной шкаф тоже был забит парусниками: одни он мастерил вместе со своим отцом, другие — сам, третьи — уже со мной. Некоторые выглядели как новенькие, только паруса потемнели, иные со временем просели, а кое-какие и вовсе завалились набок. А один был особенный: тот, что вспыхнул за неделю до моей гибели.
Папа разбил его первым.
У меня екнуло сердце. А он повернулся и обвел взглядом вереницу парусников, как вереницу лет, вспоминая руки, которые к ним прикасались. Руки покойного отца, руки покойной дочери. У меня на глазах он расколотил всю флотилию. Бутылки разбивались о стены и о деревянный табурет, возвещая мою смерть, а на полу росли горы битого стекла. Осколки сыпались вперемежку с бумажными парусами и щепками. Папа остался на месте кораблекрушения. Уж не знаю, как, не знаю, как у меня получилось, но я обнаружила свое присутствие. В каждом осколке, в каждом обрывке, в каждом обломке я запечатлела свое лицо. Опустив голову, папа посмотрел вокруг. Безумие. Длилось оно не более секунды — после этого я исчезла. Папа на мгновение замер, а потом разразился хриплым утробным смехом. От такого рокота меня на небесах пробрал озноб.
Выйдя из мастерской, он прошел по узкому коридору мимо двух других комнат и оказался перед моей спальней. Эта дверь ничем не отличалась от других, такая же хлипкая — кулаком выбить можно. Ему хотелось расколотить зеркало над комодом, содрать ногтями обои, но вместо этого он рухнул на мою кровать и, сотрясаясь от рыданий, вцепился в сиреневую простыню.
— Папа? — окликнул Бакли, держась за дверную ручку.
Обернувшись на детский голос, отец не смог унять слезы. Он соскользнул на пол, не выпуская из пальцев простыню, и лишь немного погодя развел руки в стороны. Бакли не сразу решился броситься в отцовские объятия, хотя обычно не заставлял себя упрашивать.
Папа закутал Бакли в простыню, еще хранившую мой запах. Ему вспомнилось, как я просила оклеить мою комнату лиловыми обоями. Вспомнилось, как он перенес ко мне старые номера «Нэшнл Джиогрэфик» и сложил на нижних полках стеллажей (я ведь планировала заняться съемкой диких животных). Вспомнилось то недолгое время, до рождения Линдси, когда в семье был только один ребенок.
— Ты у меня особенный, дружище, — сказал папа, прижимая его к себе.
Бакли вырвался и стал изучать опухшее отцовское лицо с блестками слез. Потом с серьезным видом кивнул и поцеловал отца в щеку. Такого божественного зрелища и на небесах не придумаешь: младенец утешает мужчину. Поплотнее завернув Бакли в простыню, папа вспомнил, как я падала с высокой кровати на пол и даже не просыпалась. Он сидел в зеленом кресле у себя в кабинете и читал книгу, всякий раз вздрагивая от глухого стука, когда приземлялось мое тело. Тут он вставал с кресла и спешил ко мне. Ему нравилось смотреть, как я сплю — так крепко, что меня не могли разбудить ни страшные сны, ни полеты с кровати на твердый пол. В такие минуты он божился, что его дети станут королями или диктаторами, художниками или фотоохотниками — кем увидят себя во сне.